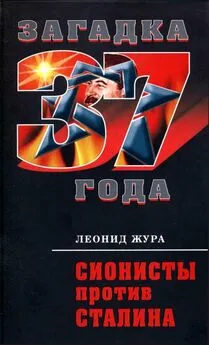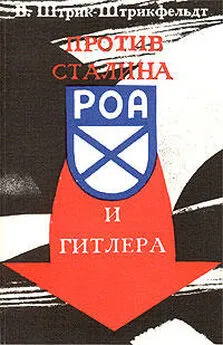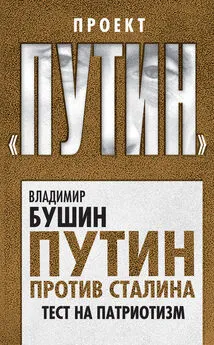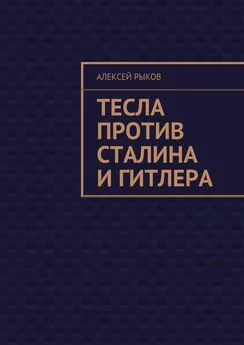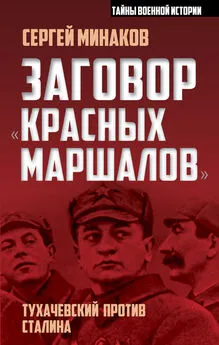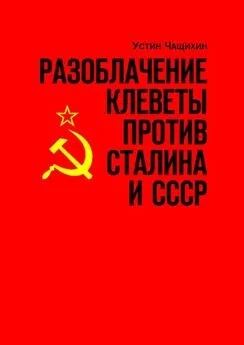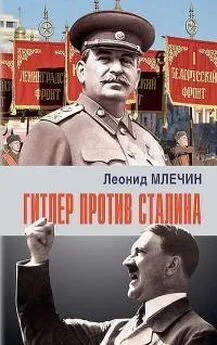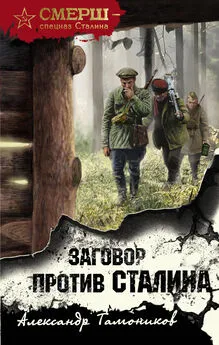Леонид Жура - Сионисты против Сталина
- Название:Сионисты против Сталина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ОСЮ «Алгоритм-Издат»
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4320-0044-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Жура - Сионисты против Сталина краткое содержание
Историк Леонид Жура прежде всего известен тем, что является представителем Евгения Джугашвили, внука И. В. Сталина, на судебных процессах в защиту вождя, — против лжи и клеветы, возводимых на Сталина в современной России.
Собирая материалы для этих процессов, Л. Жура провел огромную работу в архивах и установил, в частности, что в СССР существовали тайные сионистские организации, действующие против Сталина и прикрывающие свои истинные цели заботой о «деле революции». Например, одна из таких организаций, в состав которой входили Эльгиссер, Фурман, Уфлянд, Рейф и Рабинович, была создана после войны; ее участники не только вели антисоветскую пропаганду, но и готовили террористические акты против руководителей Советского Союза.
Но борьба сионистов против Сталина не закончилась после его смерти, она продолжается и поныне, пишет автор и приводит конкретные факты этой борьбы в наши дни.
Сионисты против Сталина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Итак — по ноге!», а «рука к его детству отношения не имеет!» — таков как бы научный вывод проведенного глубинного историко-медицинского расследования. И мы с благодарностью поздравляем Радзинского с этим открытием, обогатившим отечественную историческую науку, и напоминаем ему реплику героя Олега Ефремова из к/ф «Берегись автомобиля»: «Это нога — у кого надо нога!».
Радзинский:
«Но мы забыли про Бесо… Он исчез. Сверстники Сосо и его биографы пишут: „Погиб в пьяной драке“.
А что говорил сам Сосо?
Через несколько лет после „смерти отца в пьяной драке“, в 1909 году, он (Сталин. — Л. Ж.) был в очередной раз арестован полицией за революционную деятельность и отправлен в Вологду. Сохранились „сведения о поднадзорном“ из Дела № 136 Вологодского жандармского управления:
„Иосиф Виссарионов Джугашвили, грузин из крестьян. Имеет отца Виссариона Иванова 55 лет и мать Екатерину. Проживают: мать в Гори, отец ведет бродячую жизнь“.
30 июня 1909 года вновь записано:
„Отец Виссарион… ведет бродячую жизнь“.
И только в 1912 году в жандармских бумагах будут иные показания сына:
„Отец умер, мать живет в Гори“.
Что это? Его страсть запутывать жандармов? Или… отец действительно тогда был жив и где-то бродяжничал? И однажды попросту исчез? В пьяной драке когда-то погиб брат Бесо. Не попытались ли объяснить тем же исчезновение самого Бесо?».
Да простит меня читатель, но я не смог проникнуть в обвинительный замысел Радзинского. В том, что Радзинский предъявляет обвинение Сталину, сомнений нет. Но в чем именно? Что он хотел доказать? Обратить наше внимание на «страсть (Сталина. — Л. Ж.) запутывать жандармов»? Безусловно, это отвратительный порок Сталина, характеризующий его исключительно с негативной стороны. И мы сочувствуем Радзинскому, что жандармы «кончились» в 1917 году, и этот недостаток Сталина — «запутывать жандармов» — не получил дальнейшего развития.
С другой стороны, в приведенных жандармских донесениях почему-то не упоминается заявленная Радзинским кличка Сталина «Рябой». Впрочем, это не существенно. Был Сталин рябой? Был! Значит, жандармы вполне могли ему присвоить кличку «Рябой». То есть был у них такой мотив. Просто публикуемые Радзинским «жандармские донесения», наверное, были неправильными. Да и не обязан архивариус каждую свою мысль обосновывать документами.
Разоблачив скрываемую Сталиным «страсть» к «запутыванию жандармов», Радзинский демонстрирует свои психоаналитические способности, позволяющие ему легко проникать в подсознание давно ушедших из жизни людей.
Радзинский:
«Тускла, одинакова горийская жизнь. Одним из самых сильных впечатлений Сосо была публичная казнь двух преступников.
13 февраля 1892 года. Тысячная толпа собралась у помоста. Отдельно в толпе — учащиеся и преподаватели духовного училища. Считалось, что зрелище казни должно внушать чувство неотвратимости возмездия, боязнь преступления. Из воспоминаний Петра Капанадзе: „Мы были страшно подавлены казнью. Заповедь „не убий“ не укладывалась с казнью двух крестьян. Во время казни оборвалась веревка, но повесили во второй раз“. В толпе у помоста были двое будущих знакомцев: Горький и Сосо. Горький описал казнь, а Сосо запомнил. И понял: можно нарушать заповеди».
Радзинский вместе с Петей Капанадзе считает, что государство не имеет права нарушать заповедь «не убий» даже применительно к «разбойникам», убивающим и грабящим путников в целях собственного обогащения. Вполне возможно, что в сознании мальчика Пети Капанадзе и его друзей заповедь «не убий» не укладывалась с казнью двух крестьян. Особенно если речь шла о казни именно «крестьян» за незначительные, не опасные для общества преступления. Но ведь в данном эпизоде рассказано о наказании «преступников», «разбойников». Поэтому надо согласиться с мнением маленького Сосо, которое он высказал Радзинскому во время очередного спиритического сеанса, о неприменимости заповеди «не убий» в отношении убийц! Только тогда именно разбойники, убийцы и маньяки не посмеют нарушать заповедь «не убий» в страхе перед неотвратимым возмездием!
Жаль только, что психопатические способности Радзинского не позволили ему подольше остаться в подсознании маленького Сосо. Впрочем, возможно, архивник и сам не захотел, встретив там мысли Сталина, не поддающиеся осмыслению драматургическо-понятийным аппаратом. Сделать такое предположение позволяет нам рассказ еще одного очевидца этого события.
Г. Размадзе:
«Было это, кажется, в 1892 году. Стражники поймали трех осетин, разбойничавших в Горийском уезде. На берегу Лиахвы назначена была публичная казнь.
На зрелище собралось все население городка. Как сейчас помню — три отдельные виселицы, под ними деревянные площадки, два ряда войск, окружавших место казни. Сосо Джугашвили, я и еще четверо наших товарищей по училищу залезли на деревья и оттуда наблюдали это страшное зрелище. Привели трех закованных человек. Кто-то торжественно огласил приговор. Одного осетина отделили от остальных — мы поняли, что казнь заменена ему другим наказанием, — ас двух других стали сбивать кандалы. Осужденным закрутили за спины руки, надели на них мешки. Облаченный в красное палач отвел их на площадки, окрутил вокруг шей петли, оттолкнул табуретки. Люди повисли в воздухе. Через несколько секунд, когда палач стал подтягивать веревку, один из повешенных сорвался, его стали вешать снова. Эта жуткая картина произвела на нас, детей, самое тяжелое впечатление. Возвращаясь с места казни, мы стали обсуждать, что будет с повешенными на том свете. Будут ли их жарить на медленном огне. Сосо Джугашвили разрешил наши сомнения: „Они, — сказал он, задумавшись, — уже понесли наказание, и будет несправедливо со стороны Бога наказывать их опять“. Это рассуждение о справедливости было очень характерно для Сосо. В играх, в борьбе всегда требовал он поступать и судить справедливо, был беспристрастным и неподкупным арбитром во всех ученических спорах. Именно несправедливость, царившая на земле, заставила Иосифа Джугашвили усомниться в существовании бога, пока он не стал в результате разностороннего чтения убежденным атеистом».
Отчего ж Радзинский не привел воспоминания Г. Размадзе в своем геморроидальном сочинении?
Даже если он не понял глубину философских размышлений маленького Сосо, свидетельствующих о формировании у него обостренного чувства справедливости, все равно скрывать такой важный документ от читателя нехорошо. Настоящие архивариусы так не поступают!
Фразой «В 1894 году Сосо блестяще закончил училище — „по первому разряду“ — и поступил в первый класс Тифлисской духовной семинарии» Радзинский заканчивает описание учебы Сосо Джугашвили в духовном училище, отчаявшись найти в этом периоде жизни Сталина что-нибудь нехорошее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: