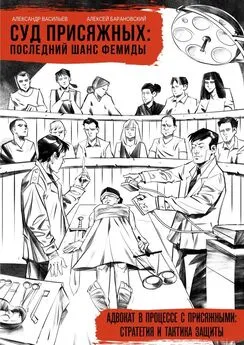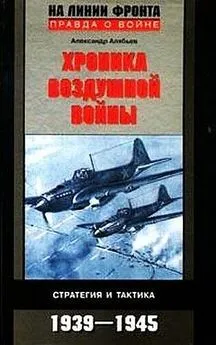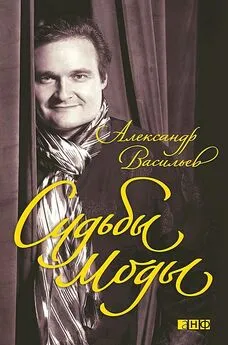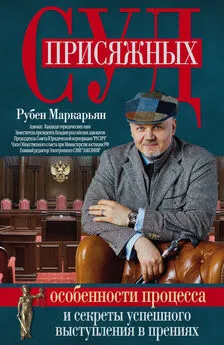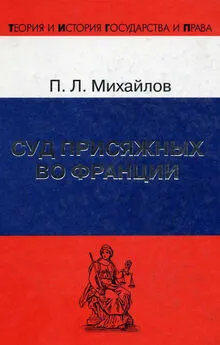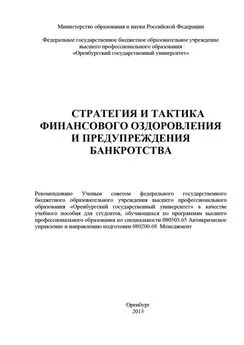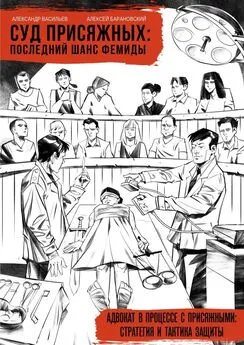Александр Васильев - Суд присяжных: последний шанс Фемиды. Адвокат в процессе с присяжными: стратегия и тактика защиты
- Название:Суд присяжных: последний шанс Фемиды. Адвокат в процессе с присяжными: стратегия и тактика защиты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Васильев - Суд присяжных: последний шанс Фемиды. Адвокат в процессе с присяжными: стратегия и тактика защиты краткое содержание
Суд присяжных: последний шанс Фемиды. Адвокат в процессе с присяжными: стратегия и тактика защиты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вот после осознания вышеизложенного, и следует намечать стратегический план защитительной речи для прений. При подготовке речи, ее следует писать, прежде всего, из расчета как она впишется в вопросный лист, который будет в руках у присяжных. «Червяк должен быть по вкусу рыбе, а не удильщику!». Так что большинство ваших аргументов в прениях будет присяжными благополучно забыто (особенно если речь огромная), если только их (присяжных) не заставят вспомнить ваши слова вопросы вопросного листа!
Итак, мысленно представьте себе вопросный лист. Определитесь, что именно из этого вопросного листа (т.е. из версии обвинения), вы сможете опровергнуть (и как), на чем необходимо сосредоточить свое основное внимание и т. д. Если вам это удастся, то четверть речи, считайте, у вас уже готово.
Так, например, при обвинении в вымогательстве будет достаточно, если присяжные заседатели, согласно формулировок вопросного листа, посчитают недоказанным утверждение о том, что подсудимый высказывал потерпевшему угрозы или требования передачи имущества. А если подсудимый обвиняется, например, в мошенничестве, то настоящей катастрофой для обвинения станет признание недоказанным факта обмана потерпевшего или отсутствие корыстного умысла у подсудимого. И т. д.
Повторюсь еще раз: то, что не будет включено в вопросный лист — останется за пределами вердикта присяжных заседателей и, соответственно, не будет иметь для защиты никакого значения. Это важно понимать, потому что нередко приходится видеть ситуации, когда защитник, ранее не участвовавший в судах с присяжными, пытается рассуждать в своей речи в прениях о тонкостях квалификации деяния подзащитного (например, о том, что такое преступное сообщество), однако даже если судья даст ему договорить и адвокат сможет убедить присяжных в неправильности предъявленной квалификации деяния, у присяжных все равно просто нет инструмента для того, чтобы что-то с этим сделать. Адвокат может сколь угодно долго рассуждать о личных качествах подсудимого, или о творимых в отношении него беззакониях, но если защитник никак не сможет увязать это с конкретными утверждениями вопросного листа — это будут впустую потраченные силы и время.
Возьмем для примера ту же статью 210 УК РФ («преступное сообщество»). Думаю, специалистам не следует разъяснять насколько это сложный для квалификации состав. Однако вам перед присяжными вообще нет особой необходимости упоминать термин «преступное сообщество», потому что в вопросном листе «преступное сообщество» присутствовать не будет (а если даже все-таки будет, то это уже серьезное апелляционное нарушение, поскольку фактически присяжным будет предложено разрешить вопрос правовой квалификации). Соответственно, адвокату необходимо сосредоточить свои усилия на опровержении деталей — существовании «общака», отдельных структурных подразделений, связанных между собой едиными планами или лидером, наличии в деятельности мер конспирации и т. д. То есть необходимо сосредоточить внимание защиты не на правовых, а на фактических вопросах. Нет смысла доказывать, что группа не была преступным сообществом — надо опровергать наличие у нее фактических признаков преступного сообщества(на основании которых суд уже после вердикта и сделает вывод о квалификации деяния).
С другой стороны, надо помнить что, опровергая какой-то общий факт, нет смысла (а иногда и прямо противопоказано) опровергать его отдельные частные моменты. Например, отрицая свою причастность к совершению разбоя, нет смысла дополнительно оспаривать сумму похищенного. Иначе получится, что сторона защиты все равно как бы соглашается с фактом причастности к преступлению, оспаривая лишь корректность отдельных формулировок обвинения. Да, в процессе с профессиональным судьей, это было бы допустимо, поскольку судья оценивает в совокупности доводы, касающиеся и фактической, и процессуальной стороны вопроса, но присяжные занимаются только фактами (к тому же у них может сложиться впечатление о косвенном признании вины). Так что, в подобном случае в суде присяжных, правильнее всегда настаивать на том, что не было либо самого факта разбоя, либо что подсудимый к нему не причастен.
Теперь поговорим о том, о чем совершенно точно не следует говорить в защитительной речи. Прежде всего, не следует (да и не имеет смысла) говорить прениях о процессуальных вопросах и вопросах допустимости тех или иных доказательств. Это бесполезный перевод времени и сил, а также законная возможность для судьи прерывать ваше выступление, а то и вообще удалить вас из процесса. К сожалению, неоднократно приходилось сталкиваться с ситуациями, когда подсудимые, да и что греха таить — и некоторые адвокаты, ранее не сталкивавшиеся с судом присяжных, в своих защитительных речах пускаются в анализ тонкостей квалификации деяния. Результат как правило плачевен…
Даже вопросы явных процессуальных нарушений в защитительной речи, как правило, не имеет смысла затрагивать, поскольку присяжные не решают вопросы допустимости (так что это будет со стороны защиты не более чем «выстрел в воздух»). Однако, в некоторых случаях, особенно по делам, когда между защитой и судом (читай — обвинением) имеет место открытая конфронтация, можно пойти и на это. Главное, чтобы эти действия были обоснованы — то есть чтобы сообщение о нарушениях прямо влияло на оценку присяжными того или иного доказательства!
Кстати, одни и те же обстоятельства, при определенной доле воображения и опыта, можно представить и как процессуальные (и соответственно запрещенные до оглашения), и как непроцессуальные. Например, по одному из дел имела место ситуация, когда опознающий предварительно не был допрошен о приметах, по которым он собирается опознавать обвиняемого. Конечно, это процессуальное нарушение, но суд закрыл на это глаза и допустил протокол до оглашения перед присяжными. Кричать об этом нарушении сразу смысла не было в силу громоздкости правовых норм, регламентирующих данный вопрос — я бы просто не успел донести до присяжных основную мысль, как меня бы уже прервали. Однако, подойдя к этому вопросу с другой стороны, в защитительной речи у меня появился примерно следующий фрагмент: «Как мы узнаем, что опознающий действительно может опознать виновного, а не просто пошел угадывать одного из трех предъявленных? Логично выяснить — какие приметы преступника он запомнил, а после опознания сравнить те приметы, которые указал опознающий до того, как увидел подсудимого, с тем что он увидел. Совпали ли эти приметы? Так вот, вы прекрасно помните, что этого по делу сделано не было — до опознания о приметах никто не говорил…».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: