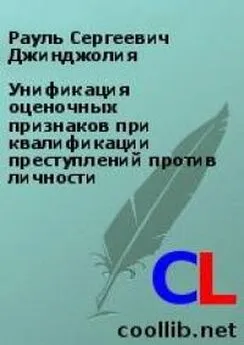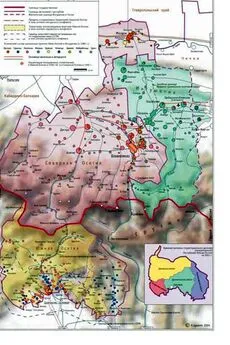Рауль Джинджолия - Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности
- Название:Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЮНИТИ- ДАНА
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-238-00751-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рауль Джинджолия - Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности краткое содержание
Для студентов и аспирантов юридических вузов, научных и практических работников.
Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, практически во всех европейских УК понятие «умысел» определяется через понятие «сознание», а проявляющиеся здесь нюансы последнего разработаны преимущественно в доктрине, но иногда представлены и в законе (УК Австрии) [222] См.: Иванов Н.Г. Принципы субъективного вменения и его реализация в УК. — С. 54.
.
В отечественном уголовном праве понятие «умысел» трактуется как осознание лицом общественной опасности совершаемых им действий. Умысел бывает прямой и косвенный. При прямом умысле лицо, совершающее деяние вполне осознает его общественную опасность (кража, убийство, разбой и т.п.). В случае косвенного умысла лицо, совершающее преступление, не желает наступления вредных последствий, но сознательно допускает, что они могут быть (например, управление автомобилем в нетрезвом состоянии).
Однако об умысле или о неосторожности речь может идти только после того, как последствия деяния фактически наступили. При этом решающее значение для отграничения прямого умысла от иных форм предвидения последствий имеет цель деяния: если последствия совпали с его целью, следовательно, субъект действовал с прямым умыслом; если нет, то речь может идти лишь о косвенном умысле либо о неосторожности [223] См.: Мальков В.П. Указ. соч. С. 93.
.
Характеризующий умысел момент предвидения рассматривается законодателем в УК с позиции осознания субъектом деяния его возможных последствий и общих черт причинной связи между деянием и последствием. При этом юристы не возражают против психологической трактовки предвидения как знания о свойстве деяния, которое приводит к результату. Предвидеть, не сознавая, невозможно. Предвидя наступление последствий, субъект сознает развитие причинной связи и характер возможного преступного результата. Следовательно, если предвидение входит в состав сознания, нелепо выделять его наряду с сознанием в качестве очередного элемента умысла [224] См.: Иванов Н.Г. Указ. соч. С. 56.
.
Очевидно также, субъект сознает общественно опасный характер совершенного им деяния лишь потому, что предвидит наступление опасных последствий. Следовательно, осознание лицом общественно опасного характера совершаемого им деяния равносильно предвидению указанных в законе последствий; это — один и тот же признак, лишь имеющий разное словесное выражение. Поскольку именно предвидение последствий обусловливает осознание общественно опасного характера деяния, а не наоборот, то термин «осознание» попросту дублирует «предвидение» и осложняет уяснение понятий «умысел» и «неосторожность» [225] См.: Мальков В.П. Указ. соч. С. 93.
.
Теоретическая и практическая бессмысленность трехкомпонентной трактовки умысла УК РФ способна создать ситуацию, при которой фактически совершенное деяние, несомненно, криминальное, может не быть признано таковым за отсутствием субъективной стороны преступления. Например, отец спасает своего ребенка от грозящей ему смертельной опасности за счет гибели нескольких ни в чем не повинных людей. При этом отец сознает неизбежность их гибели в результате предпринимаемых им действий, но их смерть не является его целью, а лишь промежуточным этапом для достижения другого результата. В данном случае действия отца нельзя квалифицировать как прямоумышленные: он не желал гибели людей. Его действия не образуют и косвенного умысла, поскольку субъект вовсе не допускал гибели посторонних и не относился к данному факту безразлично. Не желая смерти посторонних лиц, он, тем не менее, сознавал роковую неизбежность такого итога. Если рассуждать с формальных позиций закона, исходя из постулата dura lex, sed lex, то субъективная сторона отсутствует — нет ни прямого, ни косвенного умысла и уж тем более нет неосторожности. Таким образом, оказывается, что современная законодательная трактовка умысла в российском УК неприемлема ни с теоретических, ни с практических позиций. Назрела, и уже давно, необходимость в изменении устоявшегося его понятия, взяв за основу соответствующие позиции европейских УК [226] См.: Иванов Н.Г. Указ. соч. С. 56.
.
Попытки преодолеть ограничение понятия «вина» и составляющих его терминов «умысел» и «неосторожность» введением категории «предвидение последствий» нельзя воспринимать иначе, чем как подтверждение того факта, что в действительности вина отнюдь не сводится к субъективным элементам состава преступления, так как представляет собой единственное основание уголовной ответственности, заключающееся в совершении преступления [227] См.: Мальков В.П. Указ. соч. С. 96.
.
Однако если следовать за сторонниками интерпретации вины по образу и подобию ст. 24 УК РФ, тогда правоприменитель оказывается в затруднительном положении: ему придется оперировать с такими нормами УК, как ст. 22 («Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости»), ч. 2 ст. 28. («Невиновное причинение вреда»), ст. 23 («Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения»). Концепция вины как умысла (или неосторожности) предполагает, прежде всего, сознание лицом общественно опасного характера им совершаемого. При этом употребляемый в законе термин «осознание» лишен нюансов, представляя собой, как бы категорию, исключающую «игру красок». Однако в ст. 22 УК речь идет о неполном осознавании. Отсюда, например, возникает вопрос: как в рамках психологического понятия вины надо трактовать терминологическую лексему «психические расстройства, не исключающие вменяемости? Получается неполный умысел [228] См.: Иванов Н.Г. Указ. соч. С. 56.
?
Психологическое понимание вины в совокупности с аморфной конструкцией нормы УК, регулирующей ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения, вовсе ставит правоприменителя в тупик. По существу ст. 23 УК на практике до сего времени не нашла применения, поскольку непонятно, как ее следует реализовывать. Таким образом, понятие «вина» имеет совершенно конкретное и определенное содержание: не будучи определенным элементом состава преступления, оно интерпретирует в себе все элементы криминального деяния, одновременно проявляясь в юридической оценке содеянного с точки зрения требований уголовного закона в качестве единственного критерия истины: т.е. субъект виновен, если совершил преступление; субъект невиновен, если преступления не совершал [229] См.: Мальков В.П. Указ. соч. С. 97.
. Следовательно, без преступления нет вины; понятие «вина» появляется лишь при уголовно-правовой оценке криминального деяния.
Понятие же «умысел» и «неосторожность» представляют собой не две основных формы, а лишь два различных элемента единого понятия «вина» [230] Там же. С. 98.
. При этом, по мнению П.С. Дагеля степень вины определяется, помимо ее форм (элементов), рядом факторов: общественной опасностью деяния, мотивами и целями преступления, характеристикой личности субъекта и даже причинами совершения преступлений [231] Дагель И.С. Неосторожность: Уголовно-правовые и криминологические проблемы. — М., 1977. — С. 90—91.
.
Интервал:
Закладка: