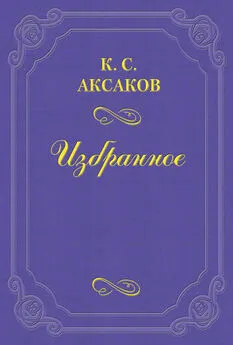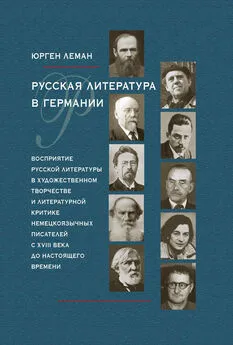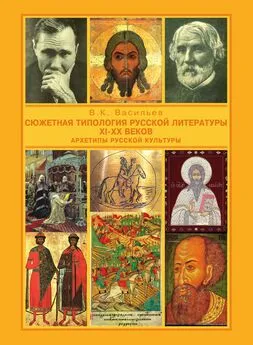Петер Ханс Тирген - Amor legendi, или Чудо русской литературы
- Название:Amor legendi, или Чудо русской литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Высшая школа экономики
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-2244-8, 978-5-7598-2328-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петер Ханс Тирген - Amor legendi, или Чудо русской литературы краткое содержание
Издание адресовано филологам, литературоведам, культурологам, но также будет интересно широкому кругу читателей.
Amor legendi, или Чудо русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Распространенное в то время в немецкой словесности слово «Schwärmerei» [1239]было в целом негативным понятием; для некоторых литературных критиков оно было даже своего рода «клеймом», но в то же время, если оно понималось как «прекрасное упоение души», в нем можно увидеть и некий извиняющий компонент [1240]. Для Достоевского, как это явствует из его повести «Кроткая», «ужасной правдой на земле» была «слепота куриная “прекрасных сердец”» (XXIV, 16). «Незнание жизни» неуклонно ведет их к безысходности и гибели. И «идеальное христианство» нужно отличать от его «эмпирической формы» [1241].
Оптимальным соответствием собственным убеждениям Достоевского в этом случае может быть понятие «честность», но и она не является заведомым доказательством морального достоинства человека (его нравственности, ср.: XXVII, 56), потому что, разумеется, нужно иметь правильные убеждения: например, это жизнь во Христе и со Христом [1242]. Соответственно, для русского писателя и «энтузиазм» сам по себе тоже не является эквивалентом «нравственности» (ср.: XI, 274; XII, 238). Противопоставление «честности» как таковой и собственно «нравственности» является одним из принципиальных понятийных контрастов и в романе И.А. Гончарова «Обломов». «Нравственные силы» Обломова, как это постоянно подчеркивает повествователь, по ходу действия романа неуклонно идут к упадку, однако даже в самом финале романа Штольц признает, что его другу свойственны «честность» и «честное сердце» (Кн. 4, гл. 8). «Честность» – это не больше, чем нулевая ступень «нравственности».
Даже само страдание может быть для Достоевского амбивалентной категорией: с одной стороны, истинное счастье достижимо только через страдание (VII, 154 и след.); соответственно, сострадание является высшей заповедью человеколюбия (ср.: VIII, 192, 289), но с другой стороны, страдание, порождаемое муками собственной совести, может переродиться в некую форму патологического наслаждения самим собой (XI, 274; XII, 238). Иначе как объяснить то, что Ницше видел в Достоевском единственного психолога, у которого он мог чему-то научиться? И молодому Обломову знакомо «наслаждение высоких помыслов», и он тоже, погруженный в мировую скорбь о страданиях человечества, проливает «сладкие слезы» над собственными страданиями (кн. 1, гл. 6). Да, он погружается в сладостную задумчивость и «засыпает в своей сладостной дремоте» (кн. 2, гл. 11). Мышкин же в финале романа впадает в умопомешательство, утопая в слезах (VIII, 507).
Самые знаменитые герои русской литературы, удостоенные эпитета «доброе» или «прекрасное» сердце – это Обломов и Мышкин. Оба они – каждый по-своему – энтузиасты, мечтатели, в перспективе повествования и в системе персонажей им сопутствуют эпитеты «поэт, мечтатель», «упоение, восторг, бред», «патетическая страсть», «прекрасная душа», «русское сердце», «благородное сердце», «предобрые люди» и т. д. Однако давайте взглянем поближе на этих героев с точки зрения оппозиции сердце/энтузиазм – характер/разум и одновременно в ретроспективе на времена Шиллера.
II. «Парадокс идиота»
Хотя Достоевский в «Дневнике писателя» и причислил Гончарова к своим любимым авторам (XXV, 198), в целом его суждения о Гончарове и прежде всего об Обломове в высшей степени противоречивы [1243]. Роман «отвратительный» (XXVIII/1, 325), его герой – петербургский продукт, лентяй, эгоист и никчемный «барич» (XX, 204; XV, 614). Точно так же Достоевский оскорбил и толстовского Левина (XXV, 205), что можно объяснить только бессознательной личной социальной неприязнью, если не завистью. В то же время в некоторых заметках можно увидеть признание Достоевского в том, что он собирается написать нечто о русских помещиках, русской народности, а также о Христе – и все это в связи с романом «Обломов» и прежде всего – с главой «Сон Обломова» (XX, 391–392; XV, 252, 614; XII, 367)! Из этих планов ничего конкретного не получилось, так что позиция Достоевского остается неясной. И все же метранпаж типографии А.И. Траншеля, М.А. Александров (см. о нем: XXIX/2, 327–328) передает следующие слова Достоевского, произнесенные в разговоре о романе «Обломов»:
А мой идиот ведь тоже Обломов ‹…›. Ну да! Только мой идиот лучше гончаровского… Гончаровский идиот мелкий, в нем много мещанства, а мой идиот – благороден, возвышен (IX, 419).
Парадоксальные странности обоих этих идиотов до сего дня представляют собой проблему для интерпретатора. Эту парадоксальность можно подытожить следующими вопросами:
• Как это возможно, чтобы воплощение смертного греха лености, литературный герой, абсолютно лишенный главных добродетелей [1244], а именно Обломов, постоянно характеризовался в повествовании эпитетами «доброе сердце», «хрустальная» и «чистая» душа?
• Как это возможно, чтобы патологически больной катализатор несчастий Мышкин, ни разу не воспрепятствовавший ни убийству, ни приступу мгновенного умопомешательства (и в этом есть некое сходство с Алешей в романе «Братья Карамазовы»), фигурировал в романе как эталон «вполне прекрасного человека» (XXVIII/2, 241, 251)?
• Как это возможно, чтобы литературные герои, чьи говорящие имена указывают на их ущербное, обломочное существование (Обломов) или зооморфное уродство (Лев Мышкин), в восприятии многих критиков вырастали до масштабов воплощенного идеала человека?
• Или в общем: как это возможно, что литературные герои Гончарова и Достоевского, именуемые по ходу повествования идиотами, олухами, больными, дураками и проч., характеризующиеся как «потерянные» и «виновные», могут быть в то же время «добрыми сердцами» или «прекрасными душами»? [1245]Достаточным ли будет объяснение этого противоречия, исходящее из традиционных ссылок на энигматически-полифонический нарратив, обманную повествовательную стратегию или архетип Дон Кихота?
Это загадка не только для здравого рассудка обыкновенного читателя, но и для профессионального литературоведа; ей заплатил свою дань даже Хорст Юрген Геригк, один из наиболее известных немецких специалистов по творчеству Достоевского, заметив: «Из всех персонажей Достоевского самую трудную загадку читателю предлагает князь Лев Мышкин» [1246]. Соответственно, от некоторых натяжек несвободны и суждения самого исследователя. С одной стороны, он называет Мышкина «светоносным персонажем», исполненным «чистоты» и «бесконечной доброты», которые в целом складываются в образ «абсолютно положительно нравственного человека» [1247]. Но с другой стороны, «для Достоевского болезнь – это всегда признак извращенного сознания, т. е. следствие безнравственных мыслей»! [1248]Итак, «положительно прекрасный человек» как носитель «безнравственных мыслей»?
Попытка спасения от этого противоречия, которую Геригк предпринимает, интерпретируя эпилепсию Мышкина как «священный недуг» и попытку шоковой терапии, предпринятой «нравственным сознанием» в целях самосовершенствования [1249], равно как и его предостережение от «недооценок», в том числе и эпитета «идиот», представляются мне довольно рискованными – если не предположить, что нравственное сознание, в том числе и христианское, является слабым и априорно угрожаемым со стороны «духовного умопомрачения». Тем не менее мысль Геригка о том, что отношение Мышкина к миру питается из источников, не могущих быть однозначно определенными, представляется верной [1250]. Я же утверждаю, что «парадокс идиота» может быть если не разрешен, то во всяком случае лучше понят с позиций идеологии Просвещения, философского идеализма и немецкой классической литературы: прежде всего, Шиллер и его кантианство обнаруживают определенные точки соприкосновения с этой проблемой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: