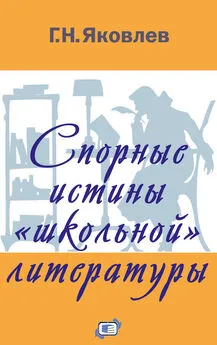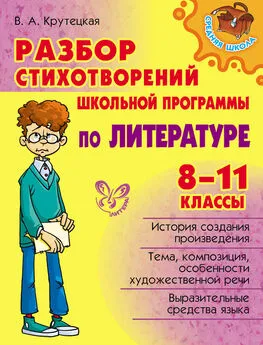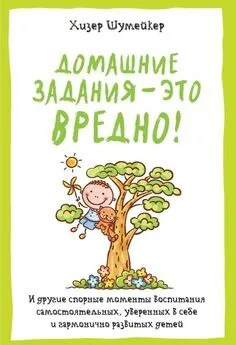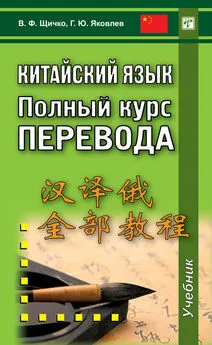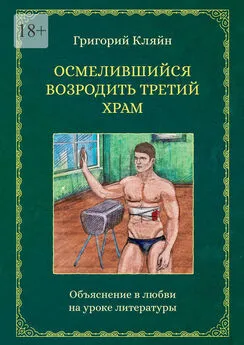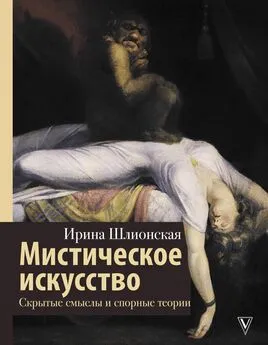Григорий Яковлев - Спорные истины «школьной» литературы
- Название:Спорные истины «школьной» литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ТеревинфDRM
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-222-17954-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Яковлев - Спорные истины «школьной» литературы краткое содержание
Вошедшие в книгу эссе публиковались в журнале «Литература в школе», газете «Литература», «Учительской газете», «Литературной газете» и др. и вызвали живой отклик со стороны учителей и литературных критиков. В настоящем издании наиболее значимые публикации впервые собраны вместе и, при необходимости, доработаны.
Для преподавателей средних учебных заведений, методистов, студентов педвузов, а также для всех неравнодушных к отечественной классической литературе.
Спорные истины «школьной» литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Одно из главных обвинений, брошенных Мечику литературоведами, – трусость. Прежде чем доказать обратное, я хотел бы напомнить, что, к сожалению, едва ли не каждый человек – и вовсе не природный трус, а мужественная, сильная личность – в критические минуты может испытывать страх, испуг, ужас. Только ханжа станет это отрицать. Вспомним хотя бы сцену из «Войны и мира» Толстого. Пьер во время Бородинского сражения спрашивает храброго солдата:
– А ты разве боишься?
– А то как же? – отвечал солдат.
Летят ядра.
Пьер, не помня себя от страха, вскочил и побежал назад на батарею, как единственное убежище от всех ужасов, окружавших его.
Не свободны от страха и герои романа Фадеева. Когда раздались выстрелы, Левинсон увидел «побледневшие и вытянувшиеся лица партизан, он прочел то же единственное выражение беспомощности и страха…» Страх охватывает иногда даже любимца Фадеева отважного Бакланова. «А что, ежели заметят?» – подумал Бакланов с тайной дрожью». Можно припомнить и повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр», и другие произведения о войне. Но, как говорили древние, «что позволено Юпитеру, то не дозволено быку». Мечику не дозволено. Я вовсе не намерен воспевать позорную трусость или повторять вслед за Северяниным: «Да здравствует святая трусость во имя жизни и мечты!», тем более что обвинение Мечика в трусости считаю необоснованным.
Да, в первом бою Мечик «проявил себя не очень мужественным человеком». Получив четыре ранения (но, заметим, и в этом случае не бросив винтовки), он даже позволил себе постонать, а затем потерять сознание. Стыдно, конечно, но это первый бой неподготовленного новичка. Он осознает свои промахи, слабость, он молод, еще не сформировался как мужчина и как боец, но очень хочет им стать: «…я буду совсем другой» – надеется он. И изменения («переделка») действительно происходят. Через некоторое время «Мечик почувствовал себя настоящим партизаном». Ему «пришлось карабкаться по хребтам, по безвестным козьим проторям», «скалистым кручам, едва не убившись», хотя он «еще нетвердо чувствовал себя на ногах» после тяжелого ранения.
Левинсон предлагает Бакланову взять Павла в разведку, чтобы проверить, что он собой представляет. В разведке Мечик проявил себя с хорошей стороны, преодолел страх, сделал несколько точных решающих выстрелов в японцев, спас положение, и Бакланов оценил это: «А ты, брат, молодец! Даже не ожидал от тебя, право. Если бы не ты, он бы нас вот так изрешетил!» Мечик оправдал надежды, но вынужденное убийство человека переживает тяжело – такова натура. В следующем столкновении с японцами Мечик тоже не струсил: «То, что он испытал, было не страх, а мучительное ожидание: когда же всё кончится?» Обстановка по-своему воспитывает и перевоспитывает личность, но то доброе начало, которое было когда-то заложено, сохраняется в натуре Мечика.
Проходит время. Новое сражение, и юный партизан снова доказывает, что он отнюдь не никчемный, не ленивый и не трус: «Мечик, увлеченный общим потоком, мчался в центре этой лавины. Он не только не испытывал страха, но даже утерял всегда присущее ему свойство отмечать собственные мысли и поступки и расценивать их со стороны… и вместе со всеми на совесть старался догнать врага…»
И вот уже предпоследняя, 16-я глава. Отступление, точнее, попытка уйти от преследующего неприятеля, сложнейший переход через болото, через трясину под пулями многочисленных врагов. «Придавленные, мокрые и злые» бойцы спешно уходят, бегут часовые, «партизаны… бросились бежать». А что же Мечик? Он не в городе, он здесь, со всеми, да еще его лошадь сорвалась с гати на болоте, и Мечик, спасая ее, изо всех сил тянет канат и зубами распутывает узел веревки, стянувшей передние ноги лошади.
Когда же наконец обнаружатся пресловутые эгоизм и трусость Мечика? Что-то медлит Фадеев с разоблачением своего нелюбимого героя. Уж не потому ли, что фамилия, данная им персонажу, смутно напоминала ему фамилию какого-то настоящего Мечика (как выяснилось позднее, когда роман был уже издан, действительный Мечик был известен на Дальнем Востоке как вполне достойный человек)?
Но замысел надо осуществлять, и вот она, последняя глава. Дамоклов меч, угрожающе висевший над невинной головой Мечика, стремительно падает. Мечик с Морозкой – в дозоре. Испытав новичка и проникшись к нему доверием, молодой Бакланов, видимо, плохой психолог, сформировал несовместимую разведывательную пару: Мечик и ревнующий и ненавидящий его Морозка. Оба они – в «сонном, тупом» состоянии, «не связанном с окружающим миром», в состоянии «крайней усталости, когда совершенно исчезают всякие, даже самые важные человеческие мысли…» И вот в таком состоянии застают его внезапно выросшие перед ним вооруженные казаки. Лошадь, испугавшаяся раньше всадника, отбрасывает Мечика в кусты, и он, не успев опомниться и что-либо сообразить, «стремительно покатился куда-то под откос». Мгновенная инстинктивная реакция самозащиты при неожиданно возникшей смертельной опасности. Испугался? Да. Струсил? Да. Но вспомним, что в это же время на «побледневших и вытянувшихся лицах партизан», услышавших выстрелы, появилось выражение «беспомощности и страха». Так чего же мы хотим от юнца Мечика? В этот момент он был во власти чувства опасности, только чувства, осознание последствий позорного бегства пришло к нему через несколько минут. «Глаза Мечика сделались совсем безумными. Он крепко вцепился в волосы исступленными пальцами и с жалобным воем покатился по земле…» «Что я наделал… о-о-о… что я наделал, – повторял он, перекатываясь на локтях и животе и с каждым мгновением всё ясней, убийственней и жалобней представлял себе истинное значение своего бегства… – Что я наделал, как мог я это сделать, – я, такой хороший и честный и никому не желавший зла, – о-о-о… как мог я это сделать!» И он, вытащив револьвер, пытается, но не может покончить с собой.
Вслух ли прозвучал отчаянный вопль (что кажется невероятным) или мысленно, но в любом случае важно, что он был искренним, не для публики (вокруг ни души), и нет тут никакой театральщины. «Он всё еще осуждал себя и каялся». Человек, способный покаяться и осудить себя, может в дальнейшем сделать много хорошего. Морозка, естественно, расценил поступок Мечика как «гнусное предательство», а партийный писатель Фадеев дал себе волю в полной мере заклеймить отщепенца: здесь и самовлюбленность, и «тихонькое паскудство», и равнодушие к судьбе товарищей. Но из этого же романа следует, что в натуре Мечика преобладали не самовлюбленность, а рефлексия и недовольство собой, не «паскудство», а честность, не равнодушие к судьбе товарищей, а человечность. И если «лучше, чище, благородней казался он сам себе до совершенного поступка», так ведь и это верно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: