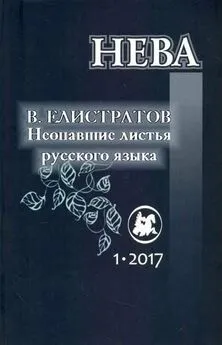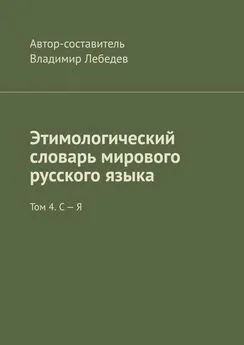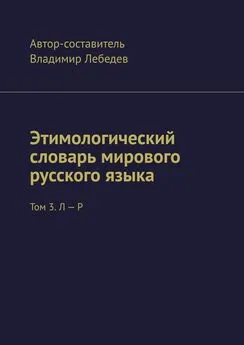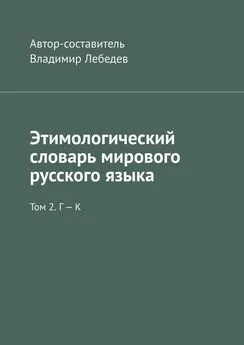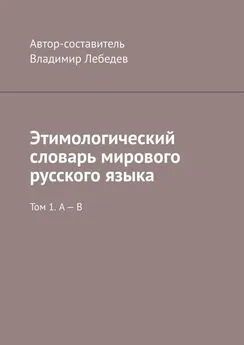Владимир Елистратов - Неопавшие листья русского языка
- Название:Неопавшие листья русского языка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Елистратов - Неопавшие листья русского языка краткое содержание
Кончено, эссе эти выполнены мною в несколько облегченном популяризованном варианте. Не только и не столько для лингвистов, сколько для всех людей, интересующихся судьбой родного языка. Тема-то, согласитесь, более чем серьезная.
Ведь мы говорим о Главных Словах нашего языка. Без которых у нас нет будущего».
Неопавшие листья русского языка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Ложь», «лгать» — древний индоевропейский корень. Если суммировать то, что он обозначает в различных языках (от исландского до литовского), то все многообразие смыслов можно свести к следующему.
Лгать — это отрицать, утаивать, предавать, искушать (манить, заманивать), просить (выпрашивать, клянчить).
Таковы исконные грани этого «этимона».
Лгун — в конечном счете ненавидящий все и вся, скрытный попрошайка, который заманивает, чтобы предать. Или: жадный и хитрый предатель-аутист. Можете сами поупражняться в подборе синонимичных формулировок.
Природа лжи, искушающая, мироотрицающая, предательская, хитрая и т. д. и, вместе с тем сильная, как жирный паразитирующий сорняк, полно и ясно отражена в бытовании этого корня в русском языке, во фразеологизмах с этим корнем, в длинных и причудливых словообразовательных «ДНК».
Ложь — это смысловой, семантический лабиринт, в который можно уйти — и уже никогда не вернуться. Современное общество — по сути и есть такой искушающий лабиринт. И никакой Ариадны с ее спасительной нитью оно вам не даст.
Просто надо стараться не лгать и называть ложь ложью. Как сказал В. М. Шукшин: «Восславим тех, кто перестал врать».
ЛЮБОВЬ и НЕНАВИСТЬ
Никто никогда не сможет однозначно ответить на вопрос, что такое «любовь» и «ненависть».
Это так называемые пансемантичные слова. Вроде слова «а» в русском языке. Его можно интонационно оформить более чем тысячей способов — и значение будет совершенно разным.
В индоевропейских языках общая «идея любви» могла соотноситься с тысячами совершенно разнородных понятий: пуп, гармония, небо, луна, опасность, ноль, пустота, грыжа, милый, бездна, музыка, серна, дерево, корова, туман, безумие, говорить, яма, затмение, ночь, овраг, прославление и т. д. и т. д.
Известно множество «классификаций» любви, богов и богинь любви и философских концепций любви.
Разноголосица полная. Можно сказать, какофония.
Но в этой кажущейся какофонии тем не менее есть своя доминанта.
Корень «люб» (в других языках — lub, lav, lob, louf, lib, lap и т. д.) несет в себе, при всем разнообразии смысловых оттенков, идею направленности изнутри «вовне», центробежного вектора, «открытости» к чему-либо, готовности к чему-либо, будь то желание, тяга, жажда, склонность, надежда, познание, восхваление или вера (все эти значения очень частотны в разных языках).
«Любить» — значит быть открытым миру, «зрячим», быть готовым слиться с ним. Будь то женщина, философия, друг, родина или «три апельсина». Отсюда — «любопытство», «любомудрие», «любование», «любезность» и т. д.
Русское слово «ненависть», всегдашний антоним («двойник-антипод») «любви», — это отрицательная форма слова «навидеть», которое было утрачена уже в далекой древности. Но «навидеть» происходит от «видеть», которое, в свою очередь, — однокоренное с «ведать», то есть знать.
То есть ненавидеть — значит не видеть мира, быть слепым, «закрытым» и, следовательно, не знать его. А любить — значит видеть мир (быть «зрячим», открытым) и знать мир, «любоваться» им.
Греческое «эрос», индийское «кама», китайское «жень» — все это активное «любомирие».
Кстати, и ныне столь «страшный» арабско-исламский «джихад» — тоже. «Джихад» — это прямое стремление к чему-либо. Существует «джихад сердца» (стремление к добру), «джихад языка» (стремление говорить только хорошо) и «джихад руки» (стремление делать только хорошее). Самый последний и наименее важный «джихад» — «джихад меча», то есть в случае необходимости отстаивать добро силой («добро должно быть с кулаками»). Но все «зациклились» на мече.
С «любовью» в современном мире та же история, что и с «джихадом»: Любовь преимущественно мыслится максимально сужено — как секс. Обычная история, так называемая семантическая синекдоха (одна из ее разновидностей), когда часть подменяет целое. И далее: эта «часть» совсем перестает быть связанной с «целым». Любовь понимается как физиологическое удовлетворение желания, хотя это уже не имеет никакого отношения к любви. Так же как любовь к земле не имеет никакого отношения к ограждению своих шести соток двухметровым забором.
Заметим: «ненависть» как (исконно) замкнутость, слепота и незнание превратилось в современном языке в «чувство сильной вражды, злобы» (С. Ожегов). Когда человек говорит «ненавижу» — он признается в том, что не видит и не знает объекта своей ненависти. Он словно бы закрывает глаза и затыкает уши. Он становится страусом, зарывающим голову в песок. Признается в своей полной несостоятельности.
Не надо употреблять слово «ненавидеть» в форме первого лица единственного числа.
И не надо так же употреблять словосочетание «заняться любовью». Потому что это абсурд: это значит либо «заняться половой принадлежностью», либо — «заняться открытостью к миру».
Мы же не «занимаемся дружбой, верой или надеждой». Как, впрочем, и «ненавистью».
МЕЧТА
В современном языковом сознании «мечта» — это прежде всего предмет стремления, желания, воображаемая цель. По всей видимости, понимание мечты как чего-то идеального, которое может воплотиться в реальность, окончательно закрепилось в XX веке. Возможно, большую роль в этом сыграла советская идеология. Ведь «коммунизм» — это «мечта-цель», «идеал-задача», грёза, которая обязательно будет реализована. Мы должны «сказку сделать былью». Любой советский человек должен был мечтать о светлом будущем для всех и о чем-нибудь высоком для себя. Например, стать космонавтом, совершить подвиг и т. п. Не иметь мечты — значит быть приземленным, «ползучим» мещанином-обывателем.
Английский писатель-фантаст Герберт Уэллс, приехавший в Россию во время революции, написал книгу «Россия во мгле». О Ленине, с которым он беседовал и который рассказал ему о грандиозных планах, поставленных молодым советским правительством, он сказал: «кремлевский мечтатель». И этот эпитет был воспринят как комплимент.
«Мечта» — одно из самых частотных слов советской литературы, причем далеко не только чисто «иделогическо-придворной». Например, Александра Грина с его «Алыми парусами» никак нельзя отнести к официальной литературе «социалистического реализма». Однако образ алых парусов стал одним из популярнейших в детско-пионерской культуре, он превратился в некий «официально-романтический» символ.
История этого корня — своего рода долгий (длившийся не одну тысячу лет) «прорыв» из идеального мира в реальность, из «сказки» — в «быль», из грезы — в действительность.
Древний индоевропейский корень («meik», «meich») имел значение блестеть, мелькать, мерцать. Во многих языках он был осмыслен как подмигивать, искриться, моргать, трепетать. Русское слово «миг», «мигать» (а возможно, и «намекать», «мгла», «мгновение») восходит к той же этимологической базе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: