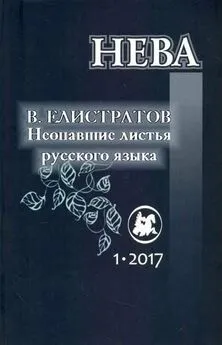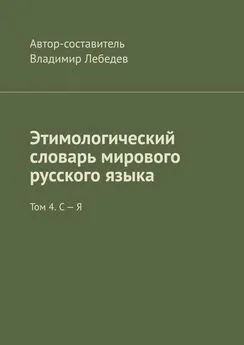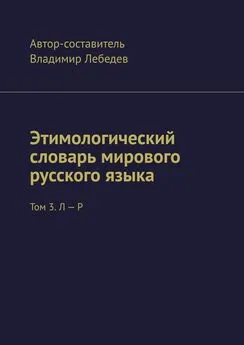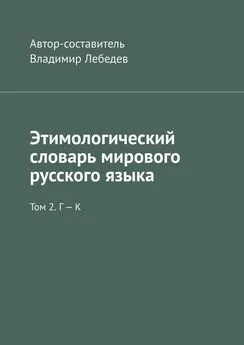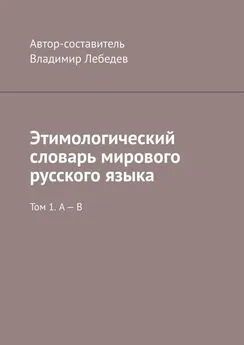Владимир Елистратов - Неопавшие листья русского языка
- Название:Неопавшие листья русского языка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Елистратов - Неопавшие листья русского языка краткое содержание
Кончено, эссе эти выполнены мною в несколько облегченном популяризованном варианте. Не только и не столько для лингвистов, сколько для всех людей, интересующихся судьбой родного языка. Тема-то, согласитесь, более чем серьезная.
Ведь мы говорим о Главных Словах нашего языка. Без которых у нас нет будущего».
Неопавшие листья русского языка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Практически все этимологи отмечают родство данного слова со словами «велеть» и «довлеть».
По сути, речь идет о некой «внутренней» и «внешней» императивности, об их гармоничном существовании.
«Воля» — это двухвекторная свобода: с одной стороны, человек-микрокосм «хочет» быть свободным перед внешним миром (так называемая внутренняя свобода), с другой — внешний макрокосм «разрешает» человеку-микрокосму осуществлять свою свободу (так называемая внешняя свобода).
В современных словарях концепт «воля» представлен расколотым на два омонима. При этом данный «раскол» представляется мне довольно искусственным.
Первый омоним имеет четыре значения: способность осуществлять желание, сознательное стремление к этому осуществлению, пожелание, требование, возможность распоряжаться, власть.
Второй омоним двухзначен. Это:
свобода проявления (в проявлении чего-либо),
свободное состояние в разомкнутом, свободном, вольном пространстве (не взаперти, не в тюрьме, не в лагере и т. п.).
Первый омоним говорит о том, что человек 1. способен, 2. хочет, 3. открыто выражает свое желание и в результате 4. потенциально властен над миром.
«Я могу, хочу, требую и добиваюсь этого».
Второй омоним говорит о том, что человек 1. проявляет свое желание «на деле» и 2. осуществляет желание в открытом пространстве макрокосма.
С точки зрения русской доктрины, эти омонимы необходимо объединить в многозначное синкретическое единство: человек может («сила воли»), хочет («воля к победе»), артикулирует желание («последняя воля»), тем самым становясь потенциальным победителем («это в его воле»), поступает согласно своему желанию («взял волю делать что-либо») и достигает размыкания макрокосма («выпустить на волю»).
Мы видим полный цикл взаимодействия микрокосма и макрокосма, а также, что особенно важно, — взаимодействия мезокосма («народ») и макрокосма («народная воля», «воля народа»).
ВРАГ
Слово «враг» заимствовано в русский язык из церковнославянского. Исконно же, по-древнерусски, оно звучит как «ворог».
Ясно, что слово «враг» — антоним слова «друг» (враг — это «не друг»). И если корень «друг» и все его производные несут в себе идею объединения, взаимности, сплочения, добра и любви, то «враг» — это разъединение, ненависть и весь спектр отрицательных значений.
Первоначально слово «враг» («ворог»), по сути дела, было антонимом слова «Бог». Потому что враг — это прежде всего черт, дьявол, сатана, «нечистый». Враг — это Антибог, богоборец и все, что он несет с собой.
Этот корень есть во многих индоевропейских языках, и значения у него самые разнообразные: черт, дьявол, нужда, злой, беда, гнать, преследовать, раб, теснить, болезненный, чахнуть, убийца, проклинать и множество других. Если собрать их, получится впечатляющий перечень всего плохого, что может произойти с отдельным человеком, с людьми, с миром в целом.
Но если попытаться проникнуть в, так сказать, этимологическое основание этого слова, то мы увидим, что, как ни странно, оно совсем даже не безоговорочно отрицательное. В ряде языков этот корень связан с идеей любви и работы.
Сейчас в нашем так называемом объединенном сознании мы не вкладываем в слова «любовь» и «работа» какого-то особенного глубинно-семантического смысла. Ну, полюбил, разлюбил, пошел на работу, пришел с работы… Наши древние предки, в отличие от нас, понимали работу и любовь именно магически.
Идея любви (в язычестве, конечно, а не в христианстве) напрямую связана с идеей колдовства. По-русски «любить-колдовать» — значит «ворожить», то есть «очаровывать», «наводить чары». Получается, что враг (ворог) — тот, кто «чарует», «завораживает», то есть колдует. Уже потом, в христианскую эпоху, «ворог» стал у русских чертом, дьяволом, то есть, в общем-то, «нехорошим язычником».
Колдовать можно и по-злому, и по-доброму. Например, у словенцев ворожить — это вредить колдовством, наводить порчу. У поляков же — предвещать, бросать жребий (бросать жребий — это тоже отчасти колдовать, то есть полагаться на высшие силы, на судьбу, провидение). Вполне нейтральное значение.
Вместе с тем у немцев или греков этот корень связан с идеей работы, труда, делания. А что такое работать опять же с точки зрения древней магии? Работать — значит производить некие культовые действия. Ведь, к примеру, пахать для крестьянина — это не просто пахать. Это — вступать в магическую связь с Духом Земли. Но и черт тоже работает, вредя людям.
Мы видим, что корень «враг», если вглядеться в него повнимательней, далеко не столь одномерен. Он — «мостик» между добром и злом, любовью и ненавистью. И далеко не только. Есть и более узкие, локальные, бытовые смыслы. Например, в диалектах русского языка этот корень может быть связан с идеей болезни («вражеское» — тяжелая болезнь, так называемая падучая) и с идеей лечения («вражный» — знахарь).
Странно, но в исконной этимологии этого вроде бы резко отрицательно окрашенного слова издревле заложена та идея, которую мы сейчас так активно обсуждаем, — идея терпимости, толерантности. Если угодно, идея христианской любви ко всем, даже, и это особенно важно, к врагам.
История человечества, конечно, жестока. И XX век особенно ожесточил людей. Кто-то был, как в характеристиках нацистов из «Семнадцати мгновений весны», «беспощаден к врагам рейха», кто-то, а именно «великий пролетарский писатель», «буревестник революции» Максим Горький, призывал: «Если враг не сдается, его уничтожают». Досталось и «врагам демократии», и «неверным» врагам.
Казалось бы: все просто: мир делится на «друзей» и «врагов».
Но выясняется, что все гораздо сложнее и вместе с тем все-таки радостнее и более обнадеживающе.
Помните эпиграф к роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» из «Фауста» Гёте? «Я часть той силы, — говорит Дьявол Мефистофелю, — что вечно хочет зла и вечно совершает благо».
А ведь это говорит не кто иной, как Враг. Это словно бы говорит само слово.
ГЛУПОСТЬ
Казалось бы, слова «глупый», «глупость», «глупец» и другие слова с этим корнем вполне ясны. Глупый значит неумный. У глупого человека ограничены умственные способности. Он несообразителен, бестолков, он совершает поступки, не обнаруживающие ума, лишенные целесообразности, разумной созерцательности: «глупо» себя ведет, задает «глупые» вопросы и т. п.
У слова «глупый» огромный синонимический ряд: «нелепый», «дикий», «идиотский», «дурацкий», «тупой», «тупоумный», «придурковатый», «бредовый», «безголовый», «дубоватый», «с придурью», «без царя в голове», «из-за угла мешком прибитый», «Богом убитый» и проч. и проч. Перечисление подобных синонимов заняло бы несколько страниц.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: