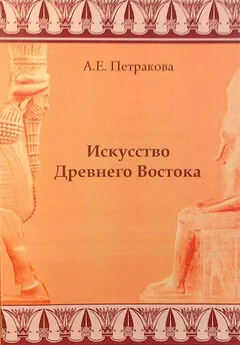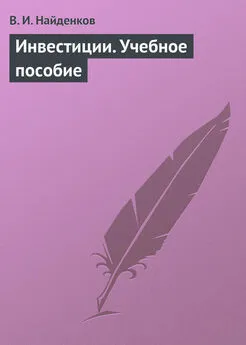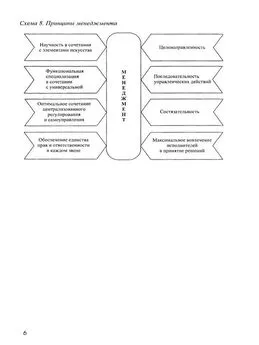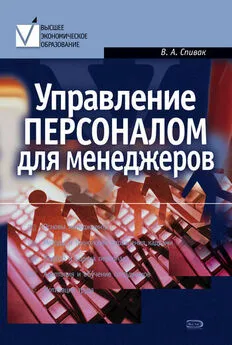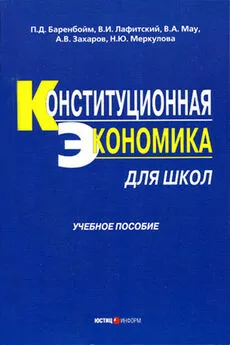Владимир Елистратов - Нейминг: искусство называть [учебное пособие]
- Название:Нейминг: искусство называть [учебное пособие]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Омега-Л
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-370-02808-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Елистратов - Нейминг: искусство называть [учебное пособие] краткое содержание
Авторы книги ставят перед собой задачу сформулировать основные принципы российского нейминга, во-первых, учитывая весь богатейший опыт мультикультурного нейминга и, во-вторых, опираясь на специфику русского языка, лингвистику и филологию школы МГУ им. М. В. Ломоносова, а также российскую ментальность, включая особенности мышления многочисленных народов, населяющих Россию.
Пособие предназначено для маркетологов, менеджеров, специалистов в области рекламы, а также будет полезно студентам, обучающимся по данным направлениям подготовки.
Нейминг: искусство называть [учебное пособие] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Например, развернутый нейм сети «Перекресток»: «Море скидок. Рыба дождалась!» В этой хокку-частушке есть нестандартная образная комбинация.
Во-первых, стертая метафора «море» (= очень много) реализована через «рыбу». Море из метафоры снова превратилось в море, в котором живет рыба.
Во-вторых, обычно в других рекламных текстах скидок дожидается «недотепа»-покупатель, который обязательно изображается либо с идиотски-радостной улыбкой загребающим товары, либо сломя голову бегущим на распродажу. Здесь же — дождался не потребитель, а сам товар (использован, кроме того, прием олицетворения: свежезамороженная неживая рыба стала живой и радуется, что ее наконец-то купят).
Оригинально, креативно, асимметрично, частушечно, «по-хоккувски».
Но потенциальные негативные коннотации из «сосуда» коммуникации нейма не учтены. Совершенно очевидна тут же возникающая дополнительная пресуппозиция: мы имеем дело с давно ждущим («дождалась»), т. е. залежалым товаром. И эта ассоциация, к сожалению, перевешивает все остальные.
Мы видим, что в нейминге идет тенденция к разворачиванию метафоры. Вообще под развернутой метафорой понимают такую метафору, которая, по сути дела, состоит из нескольких. Например, у В. Маяковского процесс ожидания вдохновения описывается так: «И, прежде чем начнет петься, долго ходят, размозолев от брожения, и тихо барахтается в тине сердца глупая вобла воображения». В этой мегаметафоре содержится не менее шести-семи мини-метафор. Попробуйте отыскать их самостоятельно.
По сути, любой нейм с его слоганом-легендой — это есть не что иное, как развернутая метафора. «Море скидок. Рыба дождалась!» — это, конечно, попроще, чем метафора Маяковского, но и она достаточно сложна и таит в себе как зерна успеха, так и подводные камни неудачных коннотаций.
Итак, разворачивание нейм-метафоры, усложнение образа — дело нелегкое и ответственное. Неймерам нужно иметь в виду, что ничего принципиально нового, такого, чего еще никогда не существовало в истории мировой словесности, они не откроют. Им просто необходимо изучать дисциплину, называющуюся исторической поэтикой, а не изобретать «креативные велосипеды».
Если говорить максимально сжато: нейм-метафора (равно как и другие средства нейминга) испытывает влияние тех же тенденций и проходит те же этапы развития, какие проходили в самые разные эпохи и в самых разных культурах. Разница литтть в том, что процесс в наши дни идет более быстро, концентрированно. То, что в древности развивалось веками, сейчас укладывается в несколько лет.
Схема такова. Сначала господствуют архаический параллелизм и возникают устойчивые эпитеты, или формулы.
Эпитет (греч. epitheton — приложение) — это красочное определение. В принципе, можно условно назвать эпитет метафорическим прилагательным. Однозначного понимания содержания термина «эпитет» не существует. Можно сказать так: это уже не стертая метафора, но еще и не метафора в полном смысле слова. Классик исторической поэтики А. Веселовский в работе «Из истории эпитета» дает типологию этого тропа. Согласно А. Веселовскому, эпитеты бывают тавтологические (белый свет), пояснительные (добрый конь), метафорические (тоска черная) и синкретические (зеленый шум). Это одна из немногих попыток как-то упорядочить концепцию эпитета. И тавтология, и пояснение, и метафорика, и синкретика в различных пропорциях и комбинациях — все это активнейшим образом используется в современном нейминге: «Милая Мила», «Чистая линия», сок «Добрый», «Белая река», «Старая Москва», «Россия — щедрая душа», «Страна чудес молочных» и т. д.
Мы знаем наши русские, устойчивые фольклорные эпитеты: красная девица, добрый молодец, море чистое, солнце красное, туча черная, брови соболиные и т. д.
У индусов и греков формулы часто имеют форму бахуврихи.
Бахуврихи (от санскрит, bahuvrihi) — сложное слово, со «свернутым» отношением обладания, принадлежности: краснощекий < имеющий красные щеки. Модель бахуврихи очень распространена и продуктивна в русском языке (двуногий, зеленоглазый, крутолобый и т. д.), в нейминге же эта модель почти совсем не востребована, случаи бахуврихи и у нас единичны (доктор Остроглаз).
У индусов бахуврихи, можно сказать, излюбленный прием, например: пальмобедрая (бедра как пальмы, с пальмовыми бедрами), лотосоокая (глаза как лотосы, с лотосовыми глазами). У греков: совоокая, волоокая, светлоокая, хитроумный, розовоперстая, громоносный.
Современный российский нейминг активно пользуется своими устойчивыми эпитетами (сумасшедшие скидки, заманчивое предложение, надежный партнер и т. д. и т. п.; роль эпитетов выполняют и частотные форманты: гипер, мега, супер и др.). Набор формул-эпитетов в нейминге крайне ограничен, он значительно уступает набору древних эпитетов. Многие устойчивые российские нейм-эпитеты являются простыми (прямыми) заимствованиями из английского (горячий от hot), т. е. незатейливыми кальками. Если в английском языке слово «hot» фонетически достаточно экспрессивно, то в русском эта экспрессивность более чем сомнительна.
Итак, все начинается с устойчивой эпической формулы. Далее, с ходом развития словесности, устойчивые эпитеты теряют свое поэтическое обаяние, вернее, перестают выполнять ту функцию, которую они должны выполнять, метафоры усложняются. Появляются особые метафорические культуры, живущие «своей жизнью». Например, у средневековых скандинавов (викингов, варягов) были дружинные певцы — скальды, в поэзии которых употреблялись особые метафоры-иносказания, называвшиеся кеннингами.
Кеннинг — это троп, представляющий собой описательное поэтическое иносказание, специфический перифраз (корабль — это парусный конь, медведь прибоя, конь валов, меч — светоч битвы и т. п.). Первоначально кеннингами назывались норманнские дружинные певцы-скальды. Термин «кеннинг» со временем расширил свое содержание, сейчас под кеннингом часто понимают любую сложную, вычурную, изысканную метафору.
Постепенно кеннинг все больше усложняется и становится «темным», «герметичным», понятным только ограниченному кругу посвященных.
То же самое произошло с метафорами средневековых южнофранцузских рыцарей-поэтов — трубадуров.
Через несколько веков, в эпоху барокко, итальянские поэты разработают особую систему изысканных метафор (они назывались кончетти, а стиль — кончеттизм). Как говорил один из кончеттистов Кьяберра: «Поэзия должна поднимать брови». То есть сражать, поражать, шокировать. Какое-то время она действительно «поднимала брови», но в скором времени стала совершенно туманной и напрочь «недешифруемой» окружающими.
В начале XX в. русские символисты за десятилетие-полтора приходят к аналогичному кризису образности. Когда позднего Блока спрашивали, что он имел в виду, какой смысл вкладывал в символ, когда писал одно из своих ранних стихотворений, он задумался и ответил примерно так: «Не помню, что-то очень важное, но сейчас забыл».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Владимир Елистратов - Нейминг: искусство называть [учебное пособие]](/books/1064909/vladimir-elistratov-nejming-iskusstvo-nazyvat-u.webp)