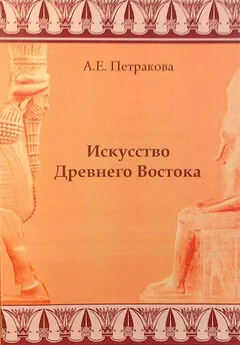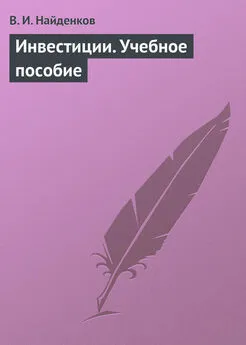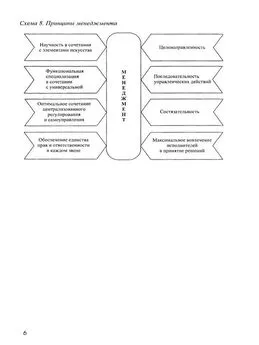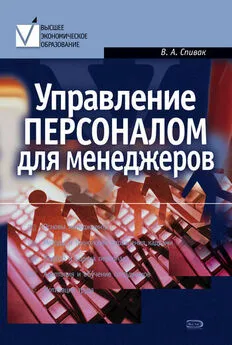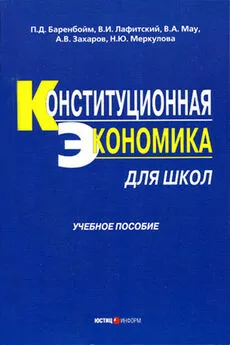Владимир Елистратов - Нейминг: искусство называть [учебное пособие]
- Название:Нейминг: искусство называть [учебное пособие]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Омега-Л
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-370-02808-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Елистратов - Нейминг: искусство называть [учебное пособие] краткое содержание
Авторы книги ставят перед собой задачу сформулировать основные принципы российского нейминга, во-первых, учитывая весь богатейший опыт мультикультурного нейминга и, во-вторых, опираясь на специфику русского языка, лингвистику и филологию школы МГУ им. М. В. Ломоносова, а также российскую ментальность, включая особенности мышления многочисленных народов, населяющих Россию.
Пособие предназначено для маркетологов, менеджеров, специалистов в области рекламы, а также будет полезно студентам, обучающимся по данным направлениям подготовки.
Нейминг: искусство называть [учебное пособие] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Современная рок-поэзия (так называемая ассоциативная поэзия) повторяет опыт символистов. И т. д. и т. п.
Перед нами интегральная, «фатальная» схема. Простая система усложняется и приходит к энтропии («сходит с ума», как говорил Н. Винер [20]) и вновь распадается в примитив. Избежать этих «систол-диастол» простоты — сложности невозможно, но можно, не впадая в крайности и стараясь придерживаться «срединного пути», смягчить колебания этого маятника.
На данном этапе нейминг явно начинает отходить от откровенного примитива и искать какую-то «креативную сложность». Уже появляются отчасти «темные» нейм-тексты. Если раньше потребитель, прочитав нейм, отворачивался со словами «Ну и пошлость!», или «Господи, опять то же самое!», или «Придумали бы хоть что-нибудь новенькое!», то сейчас все чаще он читает текст и говорит: «Не понял! Ерунда какая-то!» Причем современный копирайтерский прием — запустить заведомо «темный» текст, а затем его расшифровать (как «Квадратиш. Практиш. Гуд» — реклама шоколада) — точно копирует средневековые приемы, например, зашифрованного стиха, расшифровываемого в конце.
Это один из закономерных этапов затемнения метафоры и стиля в целом. Такие темные, аляповатые метафоры встречаются все чаще. Слово, рекламирующее пиво «Tuborg» — «Транс ПЖмируй!», — типичный пример замутненной метафоры (в данном случае латинизированного каламбура). «Образный ключ» «FUN» узнаваем, но он совершенно инороден в громоздкой русской форме императива. Получается своего рода стилистический оксюморон. Плюс неблагозвучные стечения согласных неф и нм. Сначала неймеры и копирайтеры «доставали» потребителя своей первозданной простотой, теперь — утомляют «темным неймингом» и «герметическим копирайтингом».
К метафоре примыкают, являясь, по сути, ее разновидностями, многие другие тропы. Прежде всего это гипербола и литота.
Гипербола (от греч. hyperbole — преувеличение, излишек) построена на преувеличении какого-либо действия, явления, предмета. Литота (греч. litotes — простота), или мейозис, — на преуменьшении.
Гиперболизм (бесконечные громады, океаны чего-либо, моря, вселенные, планеты, реже — галактики, водопады и т. д.) — самое частотное явление в нейминге. В большом количестве случаев гиперболы либо балансируют на грани гротеска, либо откровенно переходят в гротеск.
Гротеск в современном нейминге — еще одно подтверждение неоднократно высказывавшейся нами в этой книге и высказывающейся очень многими культурологами мысли, что современная культура впадает в архаику, т. е. воспроизводит древние лингвокультурологические архетипы. Гротеск происходит от итальянского grottesco (которое, вероятно, к нам пришло через французское grotesque). Grottesco же, в свою очередь, происходит от grotta — грот, пещера. Рафаэль и его ученики во время раскопок в Риме нашли подземные гроты, расписанные причудливыми, подчеркнуто непропорциональными изображениями людей, животных, растений, предметов, утвари и т. д. Дело в том, что уродливость и неправильность изображений были обусловлены малым количеством места. И первоначально гротеск было негативным определением. Затем понятие трансформировалось, и гротеск был осмыслен как прием совмещения реального и фантастического, смещения норм действительности, нарочитого контраста и т. д.
Современный неймер точно так же, как и катакомбные римляне, стараются впихнуть побольше эмоционального материала (словесного или визуального — все равно) в малую форму. В малое пространство (если это визуальный образ) и в малое время (в аудиорекламе). Получается «креативная уродливость», рискующая остаться лишь уродливостью и не стать удачным приемом.
Противоположностью этой громкой экспрессии является литота, она же — обратная гипербола, которая полностью доминирует в некоторых сферах нейминга, прежде всего в детском нейминге. Причем используется здесь лишь ограниченное число приемов. Литота — довольно широкое понятие, в него входит, например, литота-эвфемизм («неплохо сказано» вместо «хорошо сказано»). Кстати, психологически такой прием воздействует намного эффективнее, чем прямой эпитет — суперлатив. Суперлатив — грамматическая форма превосходной степени (великолепнейший). Один лингвист назвал такую форму грамматическим надрывом. Вот на таком «надрыве», «истошном семантическом вопле» держится значительная часть нейминга.
Гиперболически-гротесковые «Фантастические скидки!!!», «Ошеломительное предложение!!», «Суперакция!» и т. д. полностью доминируют в нейминге и очень утомляют потребителя, уже давно выработавшего устойчивый иммунитет против «супер» и «гипер», тогда как эвфемизмы-литоты (например, «Скидки — грех жаловаться» и т. п.) единичны.
В большинстве случаев мы встречаемся со словообразовательными литотами. Обилие уменьшительно-ласкательных суффиксов в русском языке дает широкие возможности для порождения литот. В этом отношении русский язык действительно уникален. Мы умудряемся «сюсюкать» и с Богом, и с чертом (Боженька, чертушка, дьяволенок и т. д.), что совершенно невозможно в большинстве языков, разве что испанский позволяет делать то же самое, хотя и не в таких производственных масштабах (diosito mio — Боженька мой).
Мы совершенно, казалось бы, необоснованно, произвольно, бесцельно употребляем эти суффиксы в быту (например, в магазине: килограммчик колбаски… рублика не будет? тридцать копеечек поищите… пакетик не забудьте и проч.), и даже к глаголам в разговорной речи мы умудряемся подставить уменьшительный суффикс (спатеньки и т. д.).
Разумеется, в детском нейминге суффиксы-литоты более чем востребованы. Например, сады и ясли города Екатеринбурга: «Мой мини-садик», «Мое Солнышко», «Дрема», «Белый слон», «Дарование», «Kids Club», «Дом Радости», «Лимпопония», «Малявки», «Персона», «Родничок», «Согласие», «Солнечный Луч», «Солнышко», «Теремок», «Цветик Семицветик».
Здесь хотя бы встречаются нелитотные «Белые слоны», «Персоны» (кстати говоря, удачный пример ироничной гиперболы, своего рода антилитоты) и «Солнечные лучи».
А вот в подмосковном Одинцове мы сталкиваемся с абсолютной и безоговорочной диктатурой суффикса-литоты: «Голубок», «Колокольчик», «Лебедушка», «Чебурашка», «Семицветик», «Матрешка», «Колосок», «Незабудочка», «Сказка», «Ромашка», «Солнышко», «Василек», «Вишенка», «Звездочка», «Ягодка», «Теремок», «Елочка», «Татьянка», «Золотые зернышки», «Подсолнушки», «Золотая рыбка», «Аленушка».
Помимо «количественных» образов (гипербола-литота) есть и множество иных. Разумеется, это олицетворение (осмысление какого-либо явления как личности, приписывание ему человеческих качеств, антропоморфизм) и одушевление (более широкий троп: осмысление неживого как живого).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Владимир Елистратов - Нейминг: искусство называть [учебное пособие]](/books/1064909/vladimir-elistratov-nejming-iskusstvo-nazyvat-u.webp)