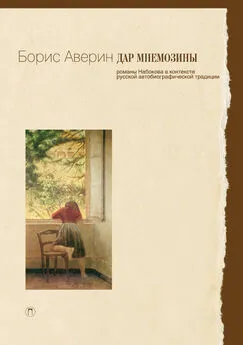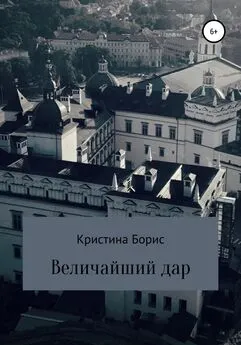Борис Аверин - Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции
- Название:Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РИПОЛ
- Год:2016
- ISBN:978-5-521-00007-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Аверин - Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции краткое содержание
Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
„Господин Смуров“, – сказал он громко, но неуверенно.
Я обернулся на звук моего имени…» ( Р III, 92).
Так «два лица сливаются в одно» [439].
В предисловии к английскому переводу романа «Отчаяние» Набоков обратил внимание читателей на «существенный пассаж, который по глупости был исключен в более застенчивые времена» [440]. В этом пассаже «Герман с восторгом описывает, как, находясь в постели с Лидией, он одновременно наблюдает за собой со стороны, отодвигаясь все дальше и дальше от места действия» [441]. Точно так же повествователь в «Соглядатае» наблюдает за собой со стороны, и это самоотстранение выражено как раздвоение: появляются «я» и «Смуров».
Как видим, скрытый механизм повествования действительно очень прост, хотя и он допускает различные истолкования. Так, например, Рената Хоф считает, что Смуров – это маска, которую надевает рассказчик, чтобы скрыть свое подлинное «Я» [442]. С этим мнением едва ли можно согласиться. Проблема, которую решает Набоков в «Соглядатае», связана с принципиальной множественностью «Я», достаточно мучительной для героя («обставленный зеркалами ад»), чтобы он приумножил ее созданием маски. Смуров – это «я» рассказчика, увиденное им же самим со стороны и, вдобавок к тому, сквозь множество призм, каковыми являются восприятия и впечатления других людей [443].
«Набоков <���…> без колебаний посвящает себя рефлексии. Он никогда не пишет без того, чтобы при этом не видеть себя со стороны , – так некоторые слушают свой голос, – и едва ли не единственным предметом его интереса служат те изощренные ловушки, в которые попадается его рефлексирующее сознание», – так определяет главную особенность самого Набокова Ж.-П. Сартр в резко негативном отзыве об «Отчаянии» [444]. К герою «Соглядатая» это определение подходит в не меньшей степени, чем к его автору. Другой упрек, адресованный Сартром Набокову, связан с тем, что, иронизируя по поводу избитых приемов повествования, Набоков сам пользуется теми же приемами. Рефлексирующий, и даже избыточно рефлексирующий, герой действительно слишком хорошо известен русской классической литературе, чтобы быть художественным открытием, достойным особого внимания. Однако рефлексирующие герои Набокова – и Герман в «Отчаянии», и Смуров в «Соглядатае» – обладают одним качеством, которое до Набокова едва ли было столь пристально описано.
Русский рефлексирующий герой, начиная с Печорина, как правило, обладал вполне определенным складом ума и характера. Черты его могли быть достаточно прихотливы – но и в этой своей прихотливости они складывались в достаточно законченную характеристику. Что же касается Смурова, он получает целый рад характеристик, каждая из которых тяготеет к законченному образу, но в целое они никак не складываются. Героическая личность – гомосексуалист – впечатлительная и застенчивая натура – вор – поэт – советский шпион – добрый, смешной и милый человек. Таков спектр характеристик Смурова, данных ему персонажами повести. Не менее многообразны и те характеристики, которые Смуров получает сам от себя. Сказать, которая из них верна, невозможно: текст не содержит указаний, однозначно отвергающих или подтверждающих любую из них. Не похоже, чтобы Смуров был шпионом или гомосексуалистом – но является ли он вором или поэтом?
Возможно – да, возможно – нет. В сущности, то же касается и всех других определений. Отчасти та же особенность свойственна и Герману в «Отчаянии». Он так уверен в сходстве со своим «двойником», в сходстве, которое, как он специально подчеркивает, не всегда способны заметить другие. Другие действительно сходства не обнаруживают. Вероятно, правы именно эти «другие», единодушные в своем мнении. Но неужели вся затея героя основана была на чистом недоразумении?
В «Соглядатае» есть эпизод, комментирующий описанную черту поэтики. Смуров попадает в Ванину квартиру и, в одиночестве, в отсутствие хозяев, хочет наконец выяснить, как относится к нему Ваня. Есть ряд признаков, по которым он думает безошибочно решить этот вопрос. Он дарил Ване орхидею – «можно было выяснить, не сохранила ли Ваня заветные останки цветка в заветном ящике». Он приносил Ване томик Гумилева – «хорошо посмотреть, разрезаны ли страницы и не лежит ли книжка на ночном столике» ( P III, 71). Интересна и судьба фотографии, на которой были сняты великолепно вышедший Смуров, Ваня и (на заднем плане) – Мухин. Ни орхидеи, ни книжки не нашлось. К лампе была прислонена фотография: Ваня и Мухин, «а слева от Вани черный локоть, – все, что осталось от cрезанного Смурова» ( P III, 71). Каковы же выводы? Вероятно, Ваня отрезала ненужного ей Смурова. «Но могло быть и другое: иногда отрезают, чтобы обрамить отдельно» ( P III, 73). Орхидея могла быть выкинута – но, быть может, Смуров просто ее не нашел, как и книгу. Разыскания итожатся словами: «если это был шифр, то все равно ключа я не знал…» ( P III, 71). Так снова возникает чтение по системе «реникса»: буквы налицо, но язык неизвестен. На основе той же системы строится трагикомический эпизод: дядя Паша поздравляет Смурова с предстоящей женитьбой на Ване. Свадьба действительно намечается, только дядя Паша перепутал имена Мухина и Смурова.
«Зеркальный ад», по которому блуждает герой, связан с отсутствием «шифра», кода, с помощью которого может быть «прочтена» его личность. «Я» не получает определенности, его множественность не может быть сведена к единству. Четвертая глава повести начинается рассуждением, ключевым по отношению к проблеме «Я»: «Положение становилось любопытным. Я уже мог насчитать три варианта Смурова, а подлинник оставался неизвестным. Так бывает в научной систематике. Давным-давно, с лаконическим примечанием „in pratis Westmanniae“, Линней описал распространенный вид дневной бабочки. Проходит время, и, в похвальном стремлении к точности, новые исследователи дают названия расам и разновидностям этого распространенного вида, так что вскоре нет ни одного места в Европе, где бы летал типический вид, а не разновидность, форма, субспеция. Где тип, где подлинник, где первообраз? И вот наконец, проницательный энтомолог приводит в продуманном труде весь список названных форм и принимает за тип двухсотлетний, выцветший, скандинавский экземпляр, пойманный Линнеем, и этой условностью все как будто улажено» ( P III, 69). За подлинник, таким образом, принята чистая условность, а настоящего решения проблемы не существует. Чем пристальнее внимание к какой-либо форме бытия, тем в большей степени она дробится на разновидности и субспеции, целое же либо ускользает, либо устанавливается как чисто конвенциональная реальность.
Метафора с бабочкой Линнея отнесена Набоковым непосредственно к проблеме личного «Я». Это оно, становясь объектом наблюдения, дробится на субспеции – вор, поэт, герой, гомосексуалист – целое же не собирается воедино. Все проявления «я» одновременно являются его инобытием, а любая форма инобытия не исключает того, что она совпадает с «Я» внутренним. Самая общепринятая форма собирания целого личности – через ее имя, которое служит признаком ее идентичности, – не работает в «Соглядатае». Герой не может сказать: «Я – Смуров», ибо все напряжение повествования держится на том, что есть «я» и есть «Смуров». Даже в конце, когда две эти фигуры смыкаются, выбрано осторожное выражение, использованное в уже цитированном фрагменте: «„Господин Смуров“, – сказал он громко <���…>. Я обернулся на звук моего имени».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: