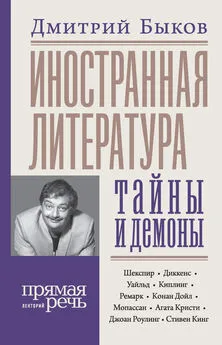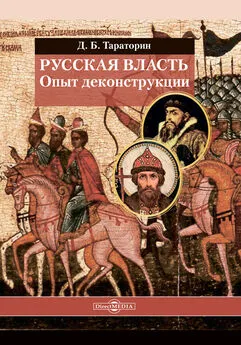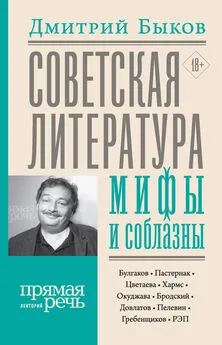Дмитрий Быков - Русская литература: страсть и власть
- Название:Русская литература: страсть и власть
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ (БЕЗ ПОДПИСКИ)
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-117669-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Русская литература: страсть и власть краткое содержание
В Лектории «Прямая речь» каждый день выступают выдающиеся ученые, писатели, актеры и популяризаторы науки. Их оценки и мнения часто не совпадают с устоявшейся точкой зрения – идеи, мысли и открытия рождаются прямо на глазах слушателей.
Вот уже десять лет визитная карточка «Прямой речи» – лекции Дмитрия Быкова по литературе. Быков приучает обращаться к знакомым текстам за советом и утешением, искать и находить в них ответы на вызовы нового дня. Его лекции – всегда события. Теперь они есть и в формате книги.
«Русская литература: страсть и власть» – первая книга лекций Дмитрия Быкова. Протопоп Аввакум, Ломоносов, Крылов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Тургенев, Гончаров, Толстой, Достоевский…
Содержит нецензурную брань
Русская литература: страсть и власть - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Видел Салтыкова – пренеприятный, пренеблаговоспитанный, грубый господин с трубным голосом, кажется, страшно самовлюбленный.
Представить себе самовлюбленного Салтыкова очень трудно, потому что он, кажется, с одинаковой страстью ненавидел и всё вокруг, и себя самого. Но не потому, что таков был его нрав, а потому, что он исходил из весьма строгих и чистых представлений об идеале и все вокруг этот идеал оскорбляло.
Как все дети властных матерей, он рос мальчиком необычайно нежным и сентиментальным. Матушка его, Ольга Михайловна, очень напоминала Арину Петровну Головлеву, пожалуй, это наиболее точный ее портрет. Более точный даже, чем в «Пошехонской старине», где воспоминания несчастного Никанора Затрапезного, лирического alter ego Салтыкова-Щедрина, уже сильно смягчены старостью, легким флером ностальгии.
А вот в «Господах Головлевых» написан довольно подробный портрет Ольги Михайловны. Это была женщина, удивительным образом сочетавшая ум, феноменальную память, силу, бесстрашие и совершенную безжалостность. Единственный, кто вызывал у нее некоторое подобие христианских чувств (помимо, может быть, сына Дмитрия, который проявлял некоторые склонности к хозяйствованию), единственной ее отдушиной был, конечно, Миша. О муже я и не говорю – мужа вообще в доме никто всерьез не принимал, он все больше молился, и его mania religiosa, видимо, передалась Михаилу Евграфовичу. Шести лет он впервые сам начал читать и прочел Евангелие и вспоминал об этом позднее как о времени неслыханного восторга, выразившегося, как он пишет, в жалении всего и вся.
Представить, что человек, написавший циничнейшие русские памфлеты, безнадежнейшие русские сатиры, мучительно рыдал от жалости ко всем и в зрелые годы, тоже сложно. Но если вспомнить сказку «Пропала совесть», если вспомнить «Рождественскую сказку», странную сказку о том, как мальчик умирает после проповеди о правде, потому что сердце его переполнено восторгом и он не может этого вместить, – мы поймем и этого, другого Щедрина. Мы увидим в нем самое главное, что в нем было, – его религиозные чувства.
Искандер однажды очень точно сказал, что религиозность не зависит ни от морали, ни от добра, ни от чего. Религиозность – это как музыкальный слух: она либо есть, либо ее нет. Вот у Щедрина было безусловно религиозное мировоззрение. Думаю, по двум причинам. Во-первых, потому что оно эсхатологично. Оно исходит из постоянного ощущения расплаты. А во-вторых, потому, что он мерит людей по идеалу. Он всех судит очень жестко, но себя – первого. Вот на этих двух основаниях я его отношу к религиозной традиции гораздо более уверенно, чем Льва нашего Николаевича, который незадолго до смерти написал: «Или Бога нет, или всё – Бог». Для Михаила Евграфовича такого вопроса не было.
Салтыков-Щедрин не был славянофилом и не был западником; его отрицание русской действительности базируется не на западнических, и не на либеральных, и не на каких-либо других прозаических началах – оно стоит на глубочайшем религиозном отвращении к мирскому, на глубочайшем, страстно воспринятом идеализме, причем не немецкого, ненавистного ему, а французского толка.
Он в детстве начинал со стихов, и вообразить Салтыкова-Щедрина, пишущего стихи… И тем не менее Миша Салтыков, воспитанник Царскосельского лицея, искренне готовил себя к пушкинской поэтической карьере. Надо сказать, он был очень привязчив к дому и в лицей ехать страшно не хотел; первые два года учился в Московском пансионе, но учился слишком хорошо и в две открывшиеся вакансии попал вместе с приятелем – его перевели в Царскосельский лицей. Там он и сочинял элегии и оды, частично опубликованные, вошедшие в его собрания, не такие плохие, но бесконечно унылые, страшно меланхолические. Этот оскорбленный, отторгнутый от дома несчастный ребенок, который страдает в холодном Петербурге, и в Царскосельском лицее, вообразив себя поэтом, пишет стихи о русских равнинах, покрытых снегом, о песнях колокольчика, о любви ямщика, и все это дышит невероятным идеализмом, невероятной нежностью ко всем этим пространствам.
После выпуска он сразу же получил место в военном министерстве, ненавидел эту работу, она никогда не могла представиться ему исполненной смысла, он никак не мог понять, зачем он должен это делать.
Он страстно увлекся в то время Фурье, ему казалось, что именно французские социалисты лучше объясняют мир. Потому что в германских нет любви к миру, а во Франции как-то оно плодороднее, говаривал он. Был он близок и с Петрашевским – слава богу, не слишком близок. И тем не менее в 1848 году, когда в России неожиданно настал чудовищный, бессмысленный заморозок, Михаил Салтыков оказался одной из первых его жертв.
Он всего-то напечатал две повести. Первая называлась «Противоречия» – обычная повесть в письмах о любви кроткой девочки Тани к ищущему персонажу Нагибину, который правды добивается и не может ее найти. И главное противоречие в повести сформулировано очень точно: люди-то все кругом хорошие – почему же жизнь такая чудовищная?!
Вторая вещь, в которой уже чувствуется Щедрин, называется «Запутанное дело» и по фабуле своей предвосхищает сказку о мальчике, который умер от разрыва сердца. Главный герой Иван Самойлович Мичулин болезненно и остро воспринимает окружающий мир: то, что кругом вранье, то, что «нужный человек» (очень точно, кстати, списанный с гоголевского «значительного лица» из «Шинели») орет на просителей, то, что в нищете прозябают прекрасные люди, а отвратительные – «люди сытые, которые едут теперь в каретах, которые сидят себе покойно в театрах или просто дома один на один с нежною подругою», и эти противоречия всеми воспринимаются как норма. А Мичулин был человек столь трогательный и чистый, что, даже когда отец ему говорил: «Будь ласков с старшими, невысокомерен с подчиненными, не прекословь, не спорь, смиряйся – и будешь ты вознесен премного, ибо ласковое теля две матки сосет», – он, разрыдавшись, убегает, потому что это было ему невыносимо. И вот этот трогательный и чистый взял да и помер – в этом, собственно, и заключается все запутанное дело. Более того, доктор, стоя над ним, в ответ на вопрос робкого Мичулина: «Что ж, умереть, что ли, надобно?» – спокойно отвечает: «Да уж это будьте покойны! умрете, непременно умрете!» И вид у этого доктора такой, как будто его отвлекли от какого-то жизненно важного дела, хотя его жизненным делом как раз и является лечить больного.
Напечатано это было в тех самых «Отечественных записках». Ничего крамольного это сочинение в себе не содержало. Но в 1848 году, испугавшись французской заразы, Николай Павлович решил заморозить Россию окончательно. И Салтыкова, который всего-то написал две повести обличительного направления, выслали в Вятку, и не преуспевающим чиновником военного ведомства, а несчастным письмоводителем, составителем годовых отчетов. Ему приходилось обрабатывать, перерабатывать, перелопачивать десятки и сотни никому не нужных справок, отправлять все это в Петербург на отчет и после этого еще выезжать с инспекцией в окрестности Вятки. Большую часть года, примерно восемь месяцев из двенадцати, проводил он в этих бессмысленных и бесконечных разъездах по отвратительным российским дорогам, – и под каким-нибудь Уржумом уж какая-нибудь ось обязательно ломалась. Да и к городу подъезд затруднен. Город весь изрыт, весь пересечен какими-то огромными оврагами, почему в «Губернских очерках» и назван Крутогорском.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
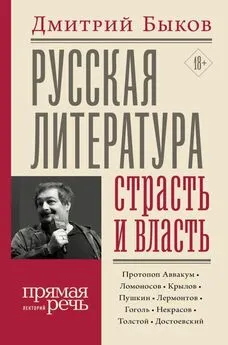


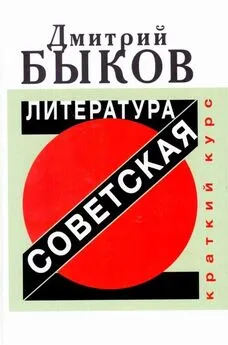


![Дмитрий Быков - Советская литература: мифы и соблазны [litres]](/books/1068513/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn.webp)