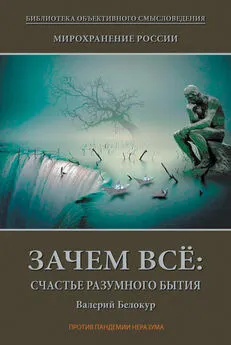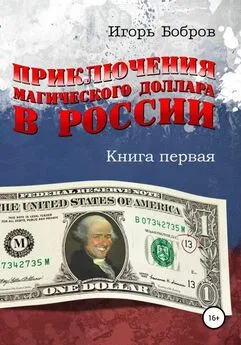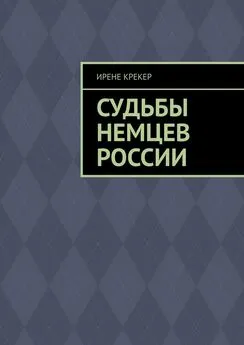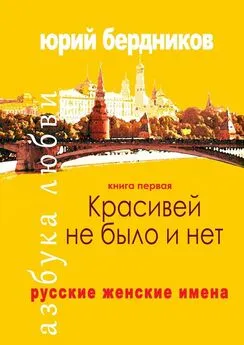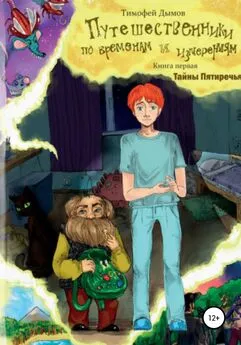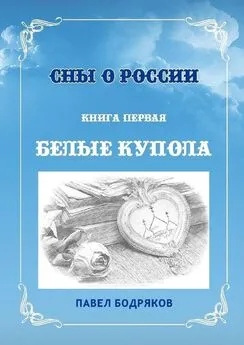Юрий Безелянский - Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России. Книга первая
- Название:Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России. Книга первая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИПО «У Никитских ворот» Литагент
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00095-394-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Безелянский - Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России. Книга первая краткое содержание
Вместе с тем книга представляет собой некую смесь справочника имен, антологии замечательных стихов, собрания интересных фрагментов из писем, воспоминаний и мемуаров русских беженцев. Параллельно эхом идут события, происходящие в Советском Союзе, что создает определенную историческую атмосферу двух миров.
Книга предназначена для тех, кто хочет полнее и глубже узнать историю России и русских за рубежом и, конечно, литературы русского зарубежья.
Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России. Книга первая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Лишь в конце жизни Саше Черному удалось наладить свой быт, решить «квартирный вопрос», купив небольшой домик на юге Франции, в местечке Ла-Фавьер, среди виноградников и зеленых холмов Прованса. Только пожить там ему довелось совсем мало. 5 августа 1932 года на соседней ферме произошел пожар, поэт бросился туда помогать тушить его. Вернулся, и прихватило надорванное сердце эмигранта, и в 52 года Саша Черный закончил свое земное существование. Уместно вспомнить, что сам ушедший считал, что
Земная жизнь ведь беженский этап.
Лишь в вечности устроимся мы прочно.
Отпевали Сашу Черного в Париже 9 августа 1932 года в Русской православной церкви на рю Дарю. Не его первого, не его последнего.
На смерть сатирика откликнулся Александр Куприн: «Саша Черный переживет всех нас, и наших внуков, и правнуков, и будет жить еще много сотен лет, ибо сделанное им сделано навеки и обвеяно чистым юмором, который – лучшая гарантия бессмертия».
Вот такая, как говорят французы, «селяви». Как и многие эмигранты-беженцы, Саша Черный тосковал по России, разумеется, не по советской ленинского образца «рабочих и крестьян», а по старой, дореволюционной России, которую некогда жестко критиковал. Знак минус поменялся на плюс, и…
Любой пустяк из прежних дней
Так ненасытно мил и чуден.
Да и русский «человеческий бурьян» оказался пригожее любых средних европейцев.
Чужие редкие леса,
Чужого неба полоса,
Чужие лица, голоса,
Чужая небылица…
Своя-то небылица роднее, разумеется. Вспоминал Россию как затонувшую Атлантиду. А ее топителей и губителей не уставал ненавидеть:
Никогда не забуду,
Никому не прощу.
И все же Саша Черный не растворялся в ненависти, не случайно, что в годы изгнания он больше писал лирических стихов, чем сатирических. Встречавшийся с ним в Париже Андрей Седых отмечал в Саше Черном два начала – периоды грусти сменялись веселым благодушным настроением, и поэт по праву о себе говорил:
Солнце светит – оптимист,
Солнце скрылось – пессимист.
В эмиграции Саша Черный много писал: помимо сатир и лирики – стихи для детей, «Дневник фокса Микки» – о своей любимой собачке, бытовые зарисовки («Парижские будни», «Из прованской тетради»), пейзажные зарисовки («Закат торжественный пылает над холмом / Безмолвною вечернею молитвой…»). В конце жизни Саша Черный продолжил некрасовскую тему и написал поэму «Кому в эмиграции жить хорошо». Печатал ее частями, начиная с 1931 года. Вот ее начало:
Однажды в мглу осеннюю,
Когда в Париже вывески
Грохочут на ветру,
Когда жаровни круглые
На перекрестках сумрачных
Чадят-дымят каштанами,
Алея сквозь глазки, —
В кавказском ресторанчике,
«Царь-пушка» по прозванию,
Сошлись за круглым столиком
Чернильные закройщики,
Три журналиста старые —
Козлов, Попов и Львов…
И после пятой рюмочки
Рассейско-рижской водочки
Вдруг выплыл из угла, —
Из-за карниза хмурого,
Из-за корявой вешалки,
Из сумеречной мглы —
На новый лад построенный,
Взъерошенный, непрошеный
Некрасовский вопрос:
Кому-де в эмиграции,
В цыганской пестрой нации
Живется хорошо?
Козлов сказал: «Наборщику»,
Попов решил: «Конторщику»,
А Львов, икнувши в бороду,
Отрезал: «Никому».
Опять прошлись по рюмочке
И осадили килькою,
Эстонской острой рыбкою,
Пшеничный полугар.
Козлов, катая шарики
Из мякиша парижского,
Вздохнул и проронил:
«А все-таки, друзья мои,
Ужели в эмиграции
Не сможем мы найти
Не то чтобы счастливого,
Но бодрого и цепкого
Живого земляка?..»
А концовка такая: уютнейшая Наденька гордится перед пришедшими гостями своим младенцем:
«Взгляните в люльку, дядюшка, —
Не Мишка ли мой тепленький,
Курносое сокровище,
Единственный, без примеси,
Счастливый эмигрант?»
Счастливый, потому что не знает своей судьбы и того, что ждет его в юные и взрослые годы. Счастливое неведенье – истинное счастье…
И что написать в заключение? Настоящая фамилия Саши Черного – Гликберг, что в переводе означает «счастливая гора». Ну а когда начался возрастной спуск с горы… Впрочем, об этом замечательно написал сам Саша Черный в стихотворении «Меланхолическое» в 1932 году, в год моего рождения. Грустно-меланхолические строки об ушедшей юности и о девушках – житомирских цирцеях:
…Живы ль нынче те Цирцеи?
Может быть, сегодня утром
У прилавка на базаре,
Покупая сноп сирени,
Наступил я им на туфли,
Но в изгнанье эмигрантском
Мы друг друга не узнали?..
Потому что только старка
С каждым годом всё душистей,
Всё забористей и крепче, —
А Цирцеи и поэты…
Вы видали куст сирени
В средних числах ноября?
На этом и опустим занавес в литературном «Балаганчике» Саши Черного. Повторим вслед за сатириком, что «жизнь суха, как жесть», и, вспоминая, мы немного расслабляемся и мягчеем. Спасибо, Александр Михайлович, гран мерси, Саша!..
И опять же не худо вспомнить афоризм Сенеки, который Саша Черный поставил эпиграфом к первому изданию своих сатир (СПб, 1910):
«Избежать всего нельзя, но можно презирать всё это».
Перефразируя древнее изречение, скажем: «Прочитали и облегчили душу»…
Аверченко: король смеха
Аркадий Тимофеевич Аверченко (1881,Севастополь - 1925,Прага). Писатель-юморист, драматург, театральный критик. И сразу напрашивается эпитет «блестящий».
А там, где кончается
звездочки точка,
месяц улыбается
и заверчен, как
будто на небе строчка
из Аверченко, —
писал Маяковский. И действительно, Аверченко умел завертеть строчку в юмористическом танце. Со словом Аверченко был на «ты». И это более чем удивительно, ибо за его спиной было всего лишь два класса гимназии. Но недостаток образования компенсировали природный ум и, конечно, талант.
В одном из писем Аверченко вспоминал о своем детстве: «Девяти лет отец пытался отдать меня в реальное училище, но оказалось, что я был настолько в то время слаб глазами и вообще болезненен, что поступить в училище не мог. Поэтому и пришлось учиться дома. С десяти лет пристрастился к чтению – много и без разбора. Тринадцати лет пытался написать собственный роман, который так и не кончил. Впрочем, он привел в восторг только мою бабушку».
Трудовую деятельность Аверченко начал в качестве младшего писца, затем конторщика и бухгалтера. Но из службы ничего толком не вышло. Как объяснял сам писатель: «Вел я себя с начальством настолько юмористически, что после семилетнего их и моего страдания был уволен». Юморист и служба – вещи несовместные. Что оставалось делать? Податься в литературу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: