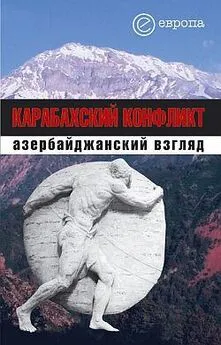Коллектив авторов - Проклятые критики. Новый взгляд на современную отечественную словесность. В помощь преподавателю литературы
- Название:Проклятые критики. Новый взгляд на современную отечественную словесность. В помощь преподавателю литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Прометей
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00172-188-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Проклятые критики. Новый взгляд на современную отечественную словесность. В помощь преподавателю литературы краткое содержание
Этот сборник – первая, не имеющая аналогов, попытка обобщить альтернативный взгляд на нашу новую словесность.
Книга будет полезна филологам, школьным и вузовским преподавателям литературы, а также всем, кто хочет самостоятельно разобраться в том, каких современных российских писателей действительно стоит читать и пропагандировать, а про каких достаточно знать, что они лауреаты «Большой книги» или «Букера».
Проклятые критики. Новый взгляд на современную отечественную словесность. В помощь преподавателю литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Дело не в том, чтобы быть как Толстой или Достоевский, а в том, чтобы адекватно отвечать на текущие вызовы и вопросы, чтобы остро чувствовать какие-то аспекты современности и реагировать на них».
«Настоящий текст пишется кровью. Это значит, что настоящий текст должно быть сложно написать. Если что-то идет очень легко и хорошо, то, наверное, это не совсем твое настоящее».
«Грубо говоря, нужно писать правду и не врать самому себе. Писать то, что тебя действительно волнует и теми словами, с теми интонациями, которые принадлежат тебе», – резюмирует прозаик и культуртрегер Левенталь.
Вот оно – Золотое Слово о сущности литературы. После такого откровения бросаешь, конечно, все суетные дела и скорей-скорей открываешь «Комнату страха», затрепанный электронный томик Вадима Левенталя. Ожидая, безусловно, бомбичности.
«У Левенталя слух зрелого поэта, легкие молотобойца и ум молодого математика; это мастер, настоящий, калибра раннего Битова» – так отзывается о «Комнате страха» известный своей беспристрастностью Лев Данилкин.
Смущает некоторая случайность анатомических формулировок: почему, допустим, не «чутье молодого поэта, ловкие пальцы брадобрея и ноги пожилого полотера»?… тем более, что образ полотера-литератора имеет прочную киноподоснову. Но, в конце концов, Льву Данилкину простительно – он не культуртрегер.
«Комната страха» – это сборник. Рассказы-нуар и повесть о блокаде. Анонс редакции Елены Шубиной обещает многое: «… традиционно петербургское настроение… Левенталь пытается отыскать суть русского человека… удивительная повесть «Доля ангелов» о блокадном Ленинграде».
Скорее же за чтение! Тем более, настоящий мастер Левенталь многажды подчеркивает свою особую любовь к Ленинграду-Петербургу.
Однако, начало первого же рассказа несколько обескураживает: «26 августа 1856 года… австрийский инженер Вильгельм Бауэр погрузился в подводной лодке собственного изобретения под воду Финского залива» . Понятно, что зауряд-читатель – не знаток истории подводного флота, но настораживает австрийско-сухопутное происхождение Первого Подводника. Лезем в Гугл. Оказывается, изобретатель подводной лодки Вильгельм Бауэр был не «австрийским» инженером, а баварским; в Австро-Венгрии он всего лишь пытался продвинуть свой проект. Такая вольность в обращении с историей Санкт-Петербурга удивляет.
В следующем абзаце удивление возрастает: «У Марии Никитичны 26 августа из действующей армии в родовое поместье вернулся ее сын – тридцатичетырехлетний майор второго драгунского полка Иван. Мария Никитична распорядилась накрыть праздничный стол… Прохор, поплевав на руки и перекрестившись, зарубил трех цыплят и заколол поросенка».
Классический вопрос: «В каком полку служили?» благодаря Остапу Бендеру приобрел ироническую окраску, но он отнюдь не случаен.
Полк был основной воинской единицей Российской императорской армии, из которых формировались дивизии и корпуса. Каждый полк имел славную боевую историю и непременно почетное именование.
Драгунских полков, например, в 1856 году имелось девять: Тверской, Казанский, Рижский, Нижегородский и т. д., а никакого «второго драгунского» не было и быть не могло. Но именование полка – полбеды, а есть еще и беда полноценная – «из действующей армии».
«Действующая армия» – это вооруженные силы, используемые во время войны для боевых действий. «Есть в военном уставе такие слова…»
А в 1856 году никаких военных действий не велось, все сражения Крымской (Восточной) войны закончились в конце 1855 года. Не мог в августе 1856 года вернуться «майор Иван» из действующей армии, потому что в это время никакой «действующей армии» в России не было.
И еще вопрос: почему майор Иван оставил полк и «приехал домой жить» ? И – « не на время, а навсегда» ? Вот описан сосед, с которым, кстати, «Иван разговаривает только о полках, в которых они служили» . Сосед – «отставной поручик», все понятно. А что с майором Иваном? Вышел в отставку?…по ранению? Дезертировал? Вышибли за вольнодумство?… может быть, он вообще завербованный английский шпион?
Со шпионством сделаем зарубку на память, этакий штрих-намек, но в целом все выглядит халтурно, криво-косо и нелепо.
И здесь читателя озаряет догадка: это же уникальный творческий метод Левенталя, мастера калибра раннего Битова! Не забудем, он пишет кровью, но в данном случае кровь – не своя. Это кровь Марьи Никитичны, матушки майора Ивана, а взгляд матери не различает военных действий, названий полков и прочей чепухи. Главное – сыночек приехал, родная кровинушка!
Возможно, впрочем, что рассказ написан кровью заколотого поросенка. Все-таки матушка – столбовая дворянка («родовое поместье»), и причиной выхода сына из полка не могла не поинтересоваться. А вот поросенку безразлично – приехал майор Иван, кабанчика и закололи. Но не будем придираться.
Поплевав на руки и перекрестившись, погружаемся в рассказ-нуар, в леденящие кровь ужасы. В ход пущено все мастерство: от слуха зрелого поэта до дыхания ноги полотера – есть пересохшие озера с мертвыми рыбами, желчь, пролившаяся из печени в матку, желтый старообразный младенец и явлен таинственный старец. Завершается рассказ мощным крещендо: «Уверовал» – крестились бабы…. и много лет на дорогах видели шагающего Ивана: с военной выправкой и привязанной к левой подмышке правой рукой».
(Невольно вспоминается бескалиберный Довлатов с рецептом правильного финала рассказа для настоящих мастеров: «…бабы долго-долго смотрели ему вслед»).
Военная выправка вкупе с правой рукой, навек привязанной к левой подмышке, производит на читателя сильнейшее впечатление. И следующий рассказ леденит кровь сам по себе, одной только формой повествования.
Обилие одинаковых местоимений и буйство авторского стиля завораживают. Или, как написали бы маститые критики: «создает непревзойденную ткань джазовых импровизаций и сингулярных синкоп».
Это же прелесть, что такое!
« …что я ее слушаю, и снова я не успел разглядеть ее ».
«Она встала, но из-за ее лица в меня теперь вперивался то белым, то синим пульсирующий софит, и я все равно ее не видел, только слышал, как она сказала».
К середине рассказа легкие молотобойца расправляются, и автор выдувает одну за другой длиннейшие непрерывные синкопы:
«Я повернулся: передо мной, завернутая в сальное плюшевое пальто, стояла маленькая старушечья фигура – и когда старуха подняла голову (она была лысая, эта голова; пучки волос торчали из нее, но похожи были скорее на плесень, заведшуюся от грязи и сырости), я бы закричал, если бы горло не перехватило от ужаса и омерзения, потому что у нее были цепкие и жадные глаза, одним из которых она подмигнула мне, двинув носом вслед «лексусу», – и я почти застонал, во всяком случае какой-то воющий звук стал рождаться у меня под ребрами, но старуха уже обогнула меня и засеменила дальше».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: