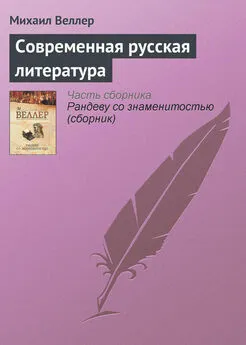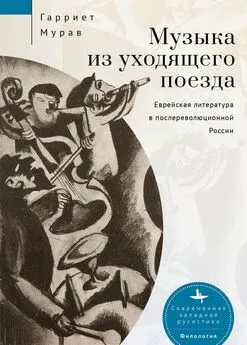Клавдия Смола - Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
- Название:Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444816035
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клавдия Смола - Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература краткое содержание
Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
301
Я сознательно перечисляю произведения «второго ряда», неоднородные в художественном смысле, однако имеющие историко-биографическую ценность – меморативные свидетельства эпохи.
302
Правда, у Рубиной представлены две противоположных модели Израиля – и сатирическая, и судьбоносно-спиритуальная.
303
О прозе Барановского см.: [Smola 2011d].
304
Так, рассказ Эли Люксембурга «В полях Амалека» написан с точки зрения автобиографического рассказчика – религиозного еврея, эмигрировавшего из Советского Союза. Герой исполнен горькой непримиримости по отношению не только к антисемитски настроенному населению Восточной Европы, но и к тем евреям, которые решили остаться дома, то есть в местах страшного преступления – холокоста. Рассказчик последовательно считает чужаками всех неевреев, всех неверующих евреев и всех евреев, живущих не в Израиле. В данном случае обретение – или топографическое завершение – новой еврейской идентичности совсем не означает отказа от полярного мышления.
305
Издание снабжено послесловием Льва Аннинского, в котором тот занят главным образом обсуждением национальных вопросов.
306
Ср. очень похожий эпизод в романе Юрия Карабчиевского «Жизнь Александра Зильбера» (1975) (см. об этом «Постколониальный mimic man : „Исповедь еврея“ Александра Мелихова», с. 370).
307
Нечто подобное наблюдается и в автобиографии Лео Певзнера «Там, где мы есть. Записки вечного еврея» (2018).
308
Грубер справедливо указывает, что тоска по «аутентичному еврейству» и желание вернуться к корням явились продуктом начавшейся задолго до холокоста и коммунизма ассимиляции европейских и американских евреев и Хаскалы, а переоткрытие и мифологизация еврейского культурного наследия Восточной Европы еврейскими интеллектуалами начались еще в конце XIX века [Gruber 2002: 30 f.]. Моника Рютерс отмечает следующие эпизоды возврата к прошлому: этнографические экспедиции Ан-ского в еврейские штетлехи ; хасидский ренессанс – в частности, в творчестве Мартина Бубера – первой трети XX века и невиданную популярность фотографий евреев Восточной Европы в Америке 1930‐х годов – например, альбомов Романа Вишняка [Rüthers 2010: 78–83]. Утраченная традиция уже тогда противопоставлялась «разорванной современности» [Ibid: 83].
309
Ср., например, Фестиваль еврейской культуры в краковском районе Казимеж (см. об этом: [Gruber 2002: 46–49]) или празднование еврейских мемориальных дат.
310
В лучшем случае это как раз и становится продуктивной «творческой изменой» в понимании Дэвида Роскиса, предполагающей одновременно близость и дистанцию.
311
Об этом см. во Введении.
312
Также в смысле «обнажения искусственности» повествования, которое Вернер Вольф рассматривает как основной прием искусства, направленного на разрушение иллюзии, искусства метафикционального [Wolf 1993: 220], но и в смысле классической «нарративной авторефлексии» [Alter 1975].
313
Об этой классификации см. также Введение.
314
Обзор этой традиции со времен античности до наших дней см. в: [Kany 2009].
315
Одна из монографий (число которых продолжает расти) о городском пространстве как о палимпсесте – работа Морица Чаки [Csáky 2010]. Чаки исследует такие популярные в гуманитарном дискурсе понятия, как следы, различия, гибридность, мультикультурализм и палимпсест, на материале культурного пространства Вены и Центральной Европы в целом.
316
Татьяна Петцер рассматривает творчество Данило Киша как глобальную поэтическую попытку создать при помощи «геологических» приемов «„архив неархивированного“», т. е. истребленного [Petzer 2008: 165]. Так у Киша вырисовывается функция мусорных свалок: «Помойки истории становятся отправной точкой (магмой) творческого акта, в трансформированном виде входя в литературную память» [Ibid: 152].
317
В книгу вошли тексты Шульмана последних десятилетий; самые ранние были написаны еще в 1950‐е годы.
318
См. об этом: [Düwell 2004].
319
О понятии метатекстуальности ср. основополагающий труд Вернера Вольфа [Wolf 1993]; дополняющие друг друга определения термина см. в типологиях Жерара Женетта [Genette 1982] и Манфреда Пфистера [Pfister 1985: 26–27].
320
Ср. также непосредственно вслед за этим: «Отец окончил четыре класса городского училища в Минске. Я не уверен, что это точно (курсив мой. – К. С. ) – возможно, и три класса» [Меттер 1992: 13].
321
Ср. другой троп ненадежной, латентной памяти: «Их [предков] зыбкие очертания колеблются в моей памяти, как водоросли на дне речного потока» [Там же: 17]. Лакуны заполняются, однако, осознанием общности: «Но вот необъяснимое ощущение, что они мои , что я происхожу от них, что это мой род (курсив в оригинале. – К. С. ), обогащает меня непрерывностью существования – чувством божественным» [Там же].
322
Ср. также: «…Пробелы памяти неохота восполнять связующими домыслами. Гул времени сохранился осколками воспоминаний, – им противопоказана последовательность и даже достоверность. Из марева возникают звуки и миражи» [Там же: 23].
323
Так, (своей собственной) позднейшей советизации и общему истреблению еврейской культуры Меттер приписывает черты фиктивности: «…это надо понимать не буквально, все это с нами как бы свершалось» [Там же: 24]. И наоборот, «неправдоподобные» истории из Торы о чудесах Моисея в пустыне, о которых повествователю рассказывали в еврейской гимназии, приобретают черты достоверности иного рода. Подобное переворачивание двух уровней реальности уже встречалось нам в еврейской литературе исхода.
324
См., например, монографию Клаудио Магриса о Йозефе Роте: [Magris 1971].
325
Государственный советский антисемитизм – центральная тема всего творчества Меттера, см. прежде всего опубликованную лишь в конце 1980‐х годов повесть «Пятый угол» (1967); об этом тексте см. у Риты Гензелевой: [Гензелева 1999: 125–140].
326
Рассказчик говорит о мечтах «торговок рыбой, повивальных бабок, портных и сапожников, шорников и столяров, лавочников и лудильщиков» [Канович 2002: 160]. Пространный список еврейских профессий явно выполняет мнемотехническую, а лучше сказать, мемориальную функцию.
327
Олаф Терпиц, упоминая неоднородные переводческие стратегии в творчестве Кановича, отсылает к предложенному Гершоном Шакедом понятию социосемантики: культурная инаковость текстов противопоставляется читательскому культурному горизонту [Терпиц 2008: 244]. Эта ситуация отражается в «обозначении реалий», которые в неодинаковой степени переводятся на русский язык либо поясняются. В результате читатель оказывается в промежуточной зоне между двумя культурами, на пересечении «инсайдерской» и «аутсайдерской» перспектив.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
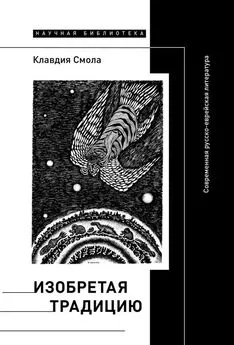




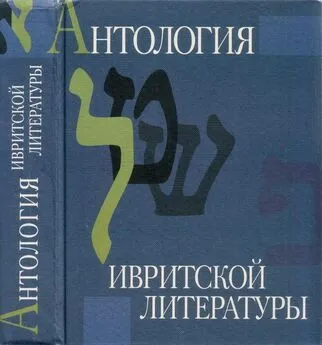
![Кирилл Королев - «Изобретая традиции»: метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в славянской фэнтези [статья]](/books/1068720/kirill-korolev-izobretaya-tradicii-metamorfozy-f.webp)
![Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]](/books/1085421/alek-epshtejn-zabytye-geroi-monparnasa-hudozhestven.webp)