Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны
- Название:Иностранная литература: тайны и демоны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ (БЕЗ ПОДПИСКИ)
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-121796-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны краткое содержание
В Лектории «Прямая речь» каждый день выступают выдающиеся ученые, писатели, актеры и популяризаторы науки. Их оценки и мнения часто не совпадают с устоявшейся точкой зрения – идеи, мысли и открытия рождаются прямо на глазах слушателей.
Вот уже десять лет визитная карточка «Прямой речи» – лекции Дмитрия Быкова по литературе. Быков приучает обращаться к знакомым текстам за советом и утешением, искать и находить в них ответы на вызовы нового дня. Его лекции – всегда события. Теперь они есть и в формате книги.
«Иностранная литература: тайны и демоны» – третья книга лекций Дмитрия Быкова. Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Редьярд Киплинг, Артур Конан Дойл, Ги де Мопассан, Эрих Мария Ремарк, Агата Кристи, Джоан Роулинг, Стивен Кинг…
Иностранная литература: тайны и демоны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Правда, есть одна интересная штука (и это вторая распространенная версия), которая наводит на мысль о том, что Эдвин Друд живёхонек. Во время одного из бесконечно скучных разговоров с Эдвином о Египте, к которому Роза не испытывает никакого интереса, Роза говорит: «А то еще был там Бельцони, или как его звали, – его за ноги вытащили из пирамиды, где он чуть не задохся от пыли и летучих мышей. У нас все девицы говорят, так ему и надо, и пусть бы ему было еще хуже, и жаль, что он совсем там не удушился!» Да, догадываемся мы, авантюрист Бельцони со своей историей не просто так.
Довольно ценный, на мой взгляд, вклад в разгадку этого дела внесла российский самодеятельный филолог Марина Чегодаева, которая в своей статье «Тайна “Тайны Эдвина Друда”» признает один вывод Уолтерса: Елена Ландлес, скорее всего, и есть Дик Дэчери, потому что кого бы мы еще ни перебрали, ни пересмотрели, не получается. А Елена ложится идеально. Это как раз то, в чем мы почерк Диккенса узнаем.
Но Чегодаева идет по гораздо более плодотворному пути, нежели просто изучение текста романа. Она изучает, как сделаны другие тексты Диккенса. Потому что как не можем мы избавиться от рисунка отпечатка пальца, нарастающего изнутри, так ни один писатель не может избавиться от своей генетической, кодовой манеры строить сюжет. Это закодировано в крови.
И вот диккенсовская манера как раз в том, что финальное торжество добра, как правило, осуществляет доживший, несчастный, поверженный персонаж. Очень редко главный герой Диккенса в конечном итоге оказывается трупом. Или убили другого, а выдали за него, как в «Нашем общем друге», или, как в «Приключениях Оливера Твиста», уж какие опасности грозили герою, а он живёхонек и совершенно неуязвим. Любимого героя Диккенс не гробит.
Кроме того, я не стал бы так уж осуждать Эдвина Друда, как делает это Уолтерс. Персонаж бледный, говорит Уолтерс, кому он нужен, вряд ли стал бы Диккенс его воскрешать. Да как раз его-то и стал бы. Потому что Диккенсу дороже всего идея преображения: идея полного морального падения личности Джаспера и параллельно подспудно идущая идея совершенствования личности Эдвина Друда.
В чем же мне, например, рисуется ослепительная новизна идеи? И почему, на мой взгляд, эта новая идея могла осуществиться только при условии, что Эдвин Друд жив? Я солидарен и с Чегодаевой, и с рядом других исследований, с Ричардом Проктором в частности, в том, что главная часть замысла, то есть удушение и перемещение Эдвина Друда в склеп, – это все осуществлено. В склепе, по всей видимости, негашеная известь заставляет его очнуться. И там, оставив одежду и, возможно, кольцо, он сумел каким-то образом выбраться.
А вот дальше происходит гениальное: Эдвин Друд ходит среди героев романа, и никто его не узнает. Общеизвестно, что Диккенс очень часто прибегает к евангельским параллелям. И вот это очень важно. Я думаю, лучший эпизод в Евангелии (да позволено мне будет судить этот текст с литературной точки зрения, оценивать его как художественный), самый мощный эпизод, во всяком случае, мой самый любимый, – это дорога в Эммаус, когда два апостола встречают Христа и не узнают его. С ними рядом идет какой-то путник, и что-то не так с этим спутником. Они чувствуют, что есть между ними какая-то связь, но не могут ее объяснить. И только когда он привычным жестом раздает им хлеб и рыбу, они узнают Христа и не понимают, как могло случиться, что они его сразу не признали. А он после воскресения так чудесно преобразился во плоти. Он остался прежним и стал другим.
Идея чудесного преображения Эдвина Друда кажется мне абсолютно реальной. «А как же его никто не узнавал?» – воскликнут все. Да вот так и не узнавал – ходил он в виде Дэчери рядом со всеми, и Джаспер его видел, и Грюджиус видел, и Невил Ландлес видел, и никто не понимал, что это он, потому что после того, как он побывал в загробном царстве, с ним произошло невероятное: он остался тем же и стал другим. Вот это ход! Вот из этого хода можно выстроить роман.
Потом, конечно, когда он, допустим, крикнет в склепе: «Джаспер, вот ты и пришел!» или «Вот ты и пришел, Джек», – вот тут-то Джаспер и узнает своего Нэда. Но до этого момента никому и в голову и не придет, что это он. К этому ходу прибегнет, например, Леонид Андреев в своем рассказе «Елеазар»: Елеазара (Лазаря), который «вышел из могилы, где три дня и три ночи находился он под загадочною властию смерти», даже собственная родня не узнает. Эдвин Друд побывал на грани и, может быть, даже за гранью смерти, и это сделало его неуязвимым для всех.
Есть, впрочем, и версия, вполне мне близкая и понятная, что Эдвин Друд действительно погиб, и в замечательной главе, которая называется «Когда эти трое снова встретятся?», предсказана смерть всех трех главных героев романа.
Ответ мог быть в предполагаемом финале романа. Джаспер погиб, сорвавшись с крыши собора, очень по-диккенсовски. Эдвина Друда убили. Невил – на нем с самого начала лежит печать обреченности, – наверное, погиб, защищая сестру. И встретились они, когда в их честь Роза Баттон назвала своих детей. А почему же и в честь Джаспера? А потому, что любил ее больше всех. Женщина таких признаний не забывает.
Такой финал, в котором Роза Баттон играет с тремя детьми, названными в честь трех главных героев ее жизни, кажется мне тоже очень диккенсовским. Когда убийца, убитый и нечаянный виновник примирились и играют у ног главной героини. Это по-диккенсовски, это красиво. Это утешительно и вместе с тем жутко. Вполне достойный финал для такого романа.
«Тайна Эдвина Друда» стала символом неоконченного романа именно потому, что, каков бы ни был вариант ее окончания, он разочаровал бы читателя. Поэтому Господь позволил Диккенсу написать его главную, великую книгу, оставив великую тайну неразгаданной. Правда, Чегодаева справедливо предполагает, что и в любом романе Диккенса, если оборвать его на половине, мы никогда не угадаем развязку. Это верно. Мы не угадаем развязку, но так ли уж много мы потеряем?
Конечно, оборванный на половине роман «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» не сказал бы нам всего о Копперфилде, но качество этого романа осталось бы неизменным. Это был бы гениальный, но диккенсовский роман, не выше и не ниже этой планки. А «Тайна Эдвина Друда» – роман, оборванный самим Господом на кульминационной точке, оборванный так же, как и жизнь Диккенса. Такой же прекрасный, такой же загадочный и такой же в результате продлившийся в бесконечность. Вот и сбылось пророчество старухи-опиумщицы: «Нэд будет жить вечно».
Оскар Уайльд
Когда говоришь об Уайльде, сталкиваешься с рядом довольно занятных предрассудков. Это заметил еще Владимир Набоков, сказавший, что эстетизм Уайльда со временем совершенно перестал восприниматься, остались только сентиментальность и довольно забавный старомодный морализм, хотя вот уж в чем Уайльда труднее всего заподозрить.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

![Тед Хьюз - Новые стихи [Иностранная литература]](/books/371989/ted-hyuz-novye-stihi-inostrannaya-literatura.webp)

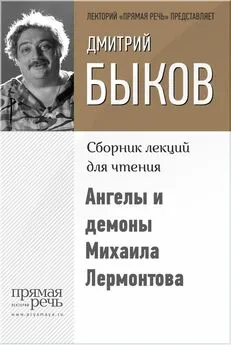
![Чарльз Буковски - Рассказы журнала [Иностранная литература]](/books/587604/charlz-bukovski-rasskazy-zhurnala-inostrannaya-lite.webp)

![Дмитрий Быков - Советская литература: мифы и соблазны [litres]](/books/1068513/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn.webp)



