Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны
- Название:Иностранная литература: тайны и демоны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ (БЕЗ ПОДПИСКИ)
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-121796-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны краткое содержание
В Лектории «Прямая речь» каждый день выступают выдающиеся ученые, писатели, актеры и популяризаторы науки. Их оценки и мнения часто не совпадают с устоявшейся точкой зрения – идеи, мысли и открытия рождаются прямо на глазах слушателей.
Вот уже десять лет визитная карточка «Прямой речи» – лекции Дмитрия Быкова по литературе. Быков приучает обращаться к знакомым текстам за советом и утешением, искать и находить в них ответы на вызовы нового дня. Его лекции – всегда события. Теперь они есть и в формате книги.
«Иностранная литература: тайны и демоны» – третья книга лекций Дмитрия Быкова. Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Редьярд Киплинг, Артур Конан Дойл, Ги де Мопассан, Эрих Мария Ремарк, Агата Кристи, Джоан Роулинг, Стивен Кинг…
Иностранная литература: тайны и демоны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Думаю, главный парадокс Уайльда заключается в том, что его время пришло только сейчас. Ответ на вопрос, почему так вышло, дает его очень недурное эссе «Душа человека при социализме» (1891), совершенно сегодня забытое. В этом эссе есть чрезвычайно важные прозрения. Уайльд понимал социализм весьма своеобразно: как царство изобилия, равных возможностей, экономической независимости, упразднения собственности. Собственность, считал он, это проклятие, потому что ее необходимо постоянно приобретать, о ней заботиться, а человек рожден творить. Он даже вывел такую формулу: «…прошлое есть то, куда не следует возвращаться. Настоящее – то, где оставаться не до́лжно. Будущее – вот обитель художника » [28] Перевод О. Кириченко.
. Формула эта довольно близко корреспондируется с известной мыслью Ницше, что человек есть то, что должно быть преодолено.
Чем же будет заниматься человек при социализме? Здесь Уайльд удивительно радикален. Все привыкли, что он не мыслитель, что его парадоксы, как говорил большой его любитель и пропагандист Корней Иванович Чуковский, – это общие места навыворот: «Всё навыворот, всё наоборот в этом перевернутом мире, не только образы или сюжеты, но и мысли». А между тем Горький защищал Уайльда от этого упрека и говорил, что в этих общих местах содержится блистательная жизненная программа.
При социализме, как представляется Уайльду, будет отменен существующий порядок вещей, потому что улучшать этот порядок – значит способствовать укреплению самого отвратительного, что в нем есть. Многие сегодня полагают, говорит Уайльд, что надо помогать бедным. Между тем, помогая бедным, мы лишь сохраняем их в статусе бедных; «такими средствами болезнь не излечить: можно лишь продлить ее течение». Нужно радикально изменить среду, «попытаться преобразовать общество на новой основе, при которой нищета сделалась бы невозможной». Помогая рабам, говорит Уайльд, мы делаем их еще более рабами, и в этом он абсолютно совпадает с Чеховым. «Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья… – говорит герой рассказа «Дом с мезонином» (1896) Лидии, учительствующей в деревенской школе. – <���…> Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а напротив, еще больше порабощаете». Неожиданно обнаруживаешь, что Уайльд и Чехов – два странных двойника, причем двойника абсолютно во всем: Чехов тоже терпеть не может социальные проблемы и высоко ценит эстетические, он рассказы свои строит по уайльдовскому принципу – в них нет морали никогда, как свод правил Чехов мораль отрицает. И в биографиях их много параллелей. Правда, в 1895 году Уайльд отправился в Рэдингскую тюрьму не совсем добровольно, а Чехов несколько раньше, в 1890 году, поехал на Сахалин абсолютно добровольно, но то, что двух самых последовательных эстетов влекло в самое неэстетичное место, – безусловно, очень знаковое совпадение.
Уайльд говорит, что забота о бедных всегда лицемерна, «милосердие такого рода растлевает и деморализует человека»; по большей части забота эта нужна нам исключительно для того, чтобы уважать себя, а помощь нищим – это всегда форма откупа (великолепная формула, которая, по сути, ставит крест на любой благотворительности). Когда мы делаем вид, что помогаем ближнему, когда мы заботимся о чьем-то процветании, мы прежде всего избегаем наших главнейших обязанностей по воспитанию собственной души, «ибо в этом, а не в физическом труде призвание человека». И вот здесь поражаешься тому, какой Уайльд, как говорил о нем Чуковский, «уже давно наш русский, родной писатель». Ведь это наша родная толстовская мысль! Помните, Толстой, разбираясь со знаменитым тезисом Золя о том, что труд совершенно необходим, говорит: проповедь труда, работы, которая так популярна сегодня в Европе и которую так активно проводит в своих сочинениях Золя, это не что иное, как проповедь духовного сна, духовного самозабвения. Эти люди трудятся только для того, чтобы забыться, а на самом деле единственная обязанность человека – работа по совершенствованию собственной души. Самое интересное, что при этом оба автора обрушиваются на Золя, Золя им совершенно поперек души. Уайльд, к примеру, в «Упадке лжи» (в «Упадке искусства лжи» в другом переводе, 1889), еще одном своем замечательном эссе, говорит: «Г-н Раскин [29] Джон Рёскин (также Раскин; 1819–1900) – английский писатель.
как-то сказал, что герои романов Джорджа Элиота представляют собой ошметки на полу Пентонвилльского омнибуса; так вот, герои г-на Золя куда хуже. Их добродетели по степени своей тоскливости превосходят их грехи», – и добавляет, мол, если герои Бальзака – это образная реальность, то герои Золя – сама безобразная реальность («Между “Утраченными иллюзиями” Бальзака и “Западней” Золя такая же разница, как между образным реализмом и безобразной реальностью»). Это достаточно жесткие слова. И чем же Толстому и Уайльду не нравится Золя? Да тем, что он имеет дело с грубой жизнью. А дело искусства, дело художника – эту грубую жизнь преодолевать и отходить от нее как можно дальше. И кстати, другой абсолютно русский автор, уж русее некуда, Марина Цветаева через двадцать лет пишет молодому большевику Бессарабову, который был в нее влюблен, то же самое: «…не разменивайтесь на копейки добрых дел недобрым людям, единственное наше дело на земле – Душа».
В эссе «Душа человека при социализме» Уайльд с абсолютной радикальностью отменяет не просто мораль как таковую, а мораль традиционную, ту же необходимость помогать ближнему, ту же проповедь свободы. Рабу свобода не нужна, потому что освобождение рабов, например, в США было делом аболиционистов.
Любопытно при этом отметить, – пишет Уайльд, – что со стороны самих рабов аболиционисты не только не получали особой поддержки, но даже едва ли находили сочувствие; когда же по окончании войны рабы оказались на воле, свободными до такой степени, что были обречены на голод, многие из них горько сожалели о переменах.
Уайльд знает, о чем говорит, потому что он Америку посещал и год разъезжал по ней с лекциями. И это тоже напоминает нам Чехова, его «Вишневый сад». «Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь», – говорит старый Фирс. «Перед каким несчастьем?» – спрашивает Гаев. «Перед волей».
Мысль о том, что рабу не нужна свобода, что раб не может ее оценить и ею воспользоваться, – великое уайльдовское прозрение. Именно сейчас, когда мы стоим на пороге осознания непобедимости этого рабства, нам очень и очень пригодятся уайльдовские мысли.
И еще одна замечательная мысль высказана в этом эссе. Уайльд говорит, что тираны бывают трех видов. Есть тираны, которые насилуют тело, – это государство. Есть тираны, которые насилуют душу, – это, условно говоря, папа. Есть тираны, которые насилуют и душу, и тело, – это чернь, публика. Это превосходная формула, потому что она позволяет Уайльду перейти к проблеме демократии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

![Тед Хьюз - Новые стихи [Иностранная литература]](/books/371989/ted-hyuz-novye-stihi-inostrannaya-literatura.webp)

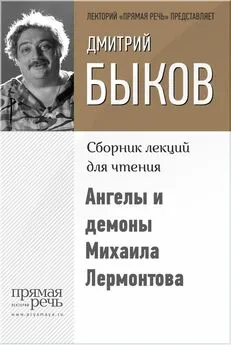
![Чарльз Буковски - Рассказы журнала [Иностранная литература]](/books/587604/charlz-bukovski-rasskazy-zhurnala-inostrannaya-lite.webp)

![Дмитрий Быков - Советская литература: мифы и соблазны [litres]](/books/1068513/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn.webp)



