Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны
- Название:Иностранная литература: тайны и демоны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ (БЕЗ ПОДПИСКИ)
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-121796-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны краткое содержание
В Лектории «Прямая речь» каждый день выступают выдающиеся ученые, писатели, актеры и популяризаторы науки. Их оценки и мнения часто не совпадают с устоявшейся точкой зрения – идеи, мысли и открытия рождаются прямо на глазах слушателей.
Вот уже десять лет визитная карточка «Прямой речи» – лекции Дмитрия Быкова по литературе. Быков приучает обращаться к знакомым текстам за советом и утешением, искать и находить в них ответы на вызовы нового дня. Его лекции – всегда события. Теперь они есть и в формате книги.
«Иностранная литература: тайны и демоны» – третья книга лекций Дмитрия Быкова. Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Редьярд Киплинг, Артур Конан Дойл, Ги де Мопассан, Эрих Мария Ремарк, Агата Кристи, Джоан Роулинг, Стивен Кинг…
Иностранная литература: тайны и демоны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Именно в XX веке стала ясна неосуществимость уайльдовской мечты. Леонид Леонов в своем романе «Пирамида» все время повторяет главную мысль: человек несовершенен потому, что в нем нарушен баланс «огня и глины», нарушена гармония, и человек обречен. И поэтому, может быть, прекрасная утопия Уайльда поражает нас именно тем, что даже последний выход – выход в искусство – оказывается для человека неосуществимым, как это ни горько. Если бы можно было в какой-нибудь портрет Дориана Грея вложить или весь свой талант, или всю свою безнравственность, или всю свою нравственность, не важно, – вложить свою половину, – как мы были бы счастливы. Но ничего нельзя сделать, потому что человек остается неразрешимой загадкой. Может ли Господь создать камень, который Он сам не сможет поднять? Да, может, этот камень уже и создан – это мы с вами.
Почему же сегодня, как мне кажется, пришло уайльдовское время, почему он для нас всех сегодня особенно важен?
Благородные, мыслящие художники-одиночки Оскара Уайльда, по всей вероятности, так же обречены, как все остальное человечество. Приходится признать, что проект «Человек» действительно несостоятелен, завершен, и единственный способ как-то самосохраниться – это жить в рамках огромного человейника, в рамках социальной сети. Но будем справедливы: какими бы идеями ни вдохновлялся Уайльд, какие бы заблуждения или прозрения им ни владели, остается в конце концов сила его воображения и волшебство его таланта. Уайльд успел выдумать, успел рассказать нам столько поразительных, чудесных, сверкающих историй, что за одно это мы должны быть ему благодарны. Нет никакой правды, кроме чуда, и никакой морали, кроме волшебства. То художественное волшебство, которое он совершил, остается любимым детским чтением, нашим утешением в тоске и отчаянии. Уайльд осуществил свой заветный план: он всегда говорил (и Мандельштам это повторял), что главная цель художника – подражать Христу. И Уайльд сумел следовать ему в самом главном: он сумел прожить свой крест, прожить свою Голгофу. Он написал «Балладу Рэдингской тюрьмы», оставив нам потрясающее свидетельство о глубинах отчаяния, и это само по себе искупает всё. Поэтому, даже если утопия свободного художника остается неосуществимой, утопия хорошего художника осуществима вполне. Как совершенно справедливо сказал Уайльд, все, что может сделать художник для ближних, – это хорошо для них писать.
Редьярд Киплинг
Если при жизни Киплинга о нем говорили по большей части как о прекрасном романисте – как-никак четыре романа, два детских и два взрослых, – то уже лет через десять после смерти его помнили преимущественно как поэта. Но прошло время, и даже после того, как Томас Элиот составил замечательную антологию его стихотворений, стало понятно, что и стихи Киплинга, невзирая на всю их орнаментальную яркость, все-таки остались в своем веке. И хотя Киплинг много сделал, например, для русской авторской песни (Булат Окуджава так напрямую и называл его своим учителем), к нынешнему моменту оказалось, что главный подвиг Киплинга – это все-таки «Книга джунглей». Точнее, две «Книги джунглей», которые были написаны совсем еще молодым человеком (Киплингу лет двадцать девять – тридцать) и составили в результате главный корпус киплинговской новеллистики.
Киплинг, вообще, фигура загадочная, прежде всего потому, что к моменту получения Нобелевской премии в 1907 году (тогда было ему сорок два года) он сделал в литературе все, что его обессмертило. Но, читая Киплинга позднего, многие могли бы задаться вопросом: полно, да он ли это писал?
С 1883 года, с восемнадцати лет своих, Киплинг зарабатывал журналистикой, причем очень прилично; первые рассказы напечатал в двадцать, и рассказы эти принесли ему славу сначала во всем англоговорящем мире, а потом постепенно и во всем остальном. Первые сборники его стихотворений, прежде всего «Ballads of barracks», «Баллады бараков» (или «Казарменные баллады», 1892), вышли уже к двадцати восьми годам. Конечно, и «Книги джунглей» (1893–1895), и «Just So Stories» – «Просто сказки» (1902) написаны были для прокорма: банк его обанкротился, и он, едва женившись, обязан был первые четыре-пять лет брака работать с абсолютно каторжным упорством. Вот и первый его роман «Свет погас» (1890) относится к этому же времени.
Но странное дело: как только Киплинг прославился по-настоящему, как только его узнала даже Россия («Просто сказки» были переведены на русский практически мгновенно), как только он стал считаться – и вполне заслуженно – первым британским поэтом и получил все возможные докторские степени и в Греции, и во Франции, и в Канаде, Киплинг как писатель перестал существовать.
Это не совсем верно, конечно. После гибели в Первую мировую войну любимого старшего сына Джона, которому посвящены были «Книги джунглей», безутешный Киплинг написал, наверное, лучший свой рассказ «Садовник» (1925) – историю о том, как мать, скорбящая на могиле сына, не узнала Христа, который подошел ее утешить. Но после «Садовника» – уже ничего. Обработки английских легенд, довольно жидкие (жидкие по сравнению с предыдущими) хрестоматийные стихи из английской истории – в общем, довольно осязаемый творческий тупик. И вот об этом стоит поговорить серьезно. Потому что тупик этот до сих пор никем толком не осознан, не отрефлексирован.
В XX веке были три величайшие утопии. Одна – утопия фашистская. Страшная. Античеловеческая. Антиутопия, на взгляд любого приличного человека. Тем не менее германский народ верил в нее двенадцать лет. Россия над своей коммунистической утопией измывалась, сочиняла частушки, рассказывала анекдоты и верила в нее с очень большой поправкой и очень небольшим процентом искренне верующих людей. В Германии в свою утопию верили процентов девяносто. И если германская утопия была построена целиком на архаике, на культе предков, на культе древности (как пишет Умберто Эко, это непременная черта любой фашистской философии), то российская большевистская утопия была построена на чистом модерне. И это сработало – во всяком случае, срабатывало до какого-то момента. Но потом оказалось, что новый человек не создан, а человек прошлого этой нагрузки не выдерживает. И российская утопия, правда, через сорок лет после Второй мировой войны, все-таки рухнула.
И была третья утопия, утопия Сесила Родса, в которой был некий призвук фашизма и некий признак его. Ведь не кто иной, как Сесил Родс, в честь которого названа Родезия, главный экспансионист, главный идеолог британской экспансии, сказал:
Я поднял глаза к небу и опустил их к земле. И сказал себе: то и другое должно стать британским. И мне открылось… что британцы – лучшая раса, достойная мирового господства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

![Тед Хьюз - Новые стихи [Иностранная литература]](/books/371989/ted-hyuz-novye-stihi-inostrannaya-literatura.webp)

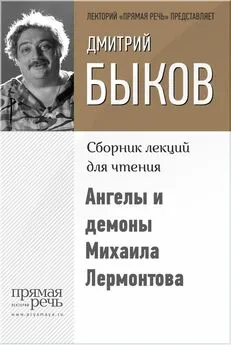
![Чарльз Буковски - Рассказы журнала [Иностранная литература]](/books/587604/charlz-bukovski-rasskazy-zhurnala-inostrannaya-lite.webp)

![Дмитрий Быков - Советская литература: мифы и соблазны [litres]](/books/1068513/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn.webp)



