Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны
- Название:Иностранная литература: тайны и демоны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ (БЕЗ ПОДПИСКИ)
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-121796-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны краткое содержание
В Лектории «Прямая речь» каждый день выступают выдающиеся ученые, писатели, актеры и популяризаторы науки. Их оценки и мнения часто не совпадают с устоявшейся точкой зрения – идеи, мысли и открытия рождаются прямо на глазах слушателей.
Вот уже десять лет визитная карточка «Прямой речи» – лекции Дмитрия Быкова по литературе. Быков приучает обращаться к знакомым текстам за советом и утешением, искать и находить в них ответы на вызовы нового дня. Его лекции – всегда события. Теперь они есть и в формате книги.
«Иностранная литература: тайны и демоны» – третья книга лекций Дмитрия Быкова. Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Редьярд Киплинг, Артур Конан Дойл, Ги де Мопассан, Эрих Мария Ремарк, Агата Кристи, Джоан Роулинг, Стивен Кинг…
Иностранная литература: тайны и демоны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сесил Родс был киплинговским другом довольно долго. Киплинг и сам приложил серьезные усилия к тому, чтобы британская утопия если не победила, то на некоторое время стала главным сюжетом мировой истории. Его утопия – это удивительный синтез утопии, с одной стороны просветительской, а с другой – обращения к корням, тоже своего рода культа предков.
Конечно, «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут» [33] Перевод Е. Полонской.
. Но, как мы знаем из «Баллады о Западе и Востоке», при определенных условиях, когда «сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает», между ними возможно что-то вроде культурного обмена.
С одной стороны, есть, конечно, «бремя белых»:
Несите бремя белых, —
И лучших сыновей
На тяжкий труд пошлите
За тридевять морей;
На службу к покоренным,
Угрюмым племенам,
На службу к полудетям,
А может быть – чертям! [34] «Бремя белого человека» (1899).
Восток должен покориться, должен принять диктат белого человека, должен научиться его искусствам, должен выучить его закон. Но, с другой стороны, белый человек, придя на Восток, научится утонченности, силе, несколько ползучей, нехристианской, языческой, но колоссальной фабульной изобретательности и хитроумию местного закона. Он научится говорить на архаическом «языке зверей», и какую-то силу, какой-то дух крови и почвы он присвоит. Он каким-то образом умудрится обменять свое просвещение на инфантилизм и здоровье Востока. В результате возникнет та образцовая утопия, которая вдохновила Киплинга писать «Маугли» [35] Русский читатель знаком с дилогией «Книга джунглей» и «Вторая книга джунглей» по классическому переводу Нины Дарузес «Маугли», в который вошли только рассказы о Маугли.
.
Ведь «Маугли», как всякая настоящая детская проза, задумывалась как проза взрослая, и не случайно Киплинг делает отсылку: «Но это уже – рассказ для больших!» Но в принципе, «Маугли» – очень серьезное произведение. Это масштабная метафора – а тексты, в которых нет масштабной метафоры, не становятся любимым детским чтением, не становятся основой мифа. Киплинг в этом смысле преуспел больше, чем Андерсен. Современный ребенок Андерсена читать не будет или будет читать в весьма основательной обработке. Настоящий Андерсен и в оригинале, и в переводе Анны и Петра Ганзенов оттолкнет современного ребенка, во-первых, назидательностью, во-вторых, жестокостью, в-третьих, сентиментальностью, которая с садизмом всегда ходит рука об руку. А вот Киплинг создал героя, который оказался бессмертен. Беда только в том, что это герой без будущего, что про этого героя можно написать один цикл сказок, и всё – дальше его утопия разрушается.
Одно из главных открытий XX века заключалось в том, что Маугли не бывает. Ребенок, воспитанный волками, или как девочки, пойманные в свое время в Индии после того, как они четыре года жили с животными, во-первых, погибают в неволе, во-вторых, если не погибают, если им создают сколько-нибудь джунглеобразные условия жизни, они никогда не могут войти в человеческий социум, никогда уже не могут стать прежними. Полубог Маугли, который оказался одинаково успешен и в волчьей стае, и в человечьей стае, – только плод киплинговского воображения; в этом и причина главного краха киплингианской утопии, главная трагедия.
Надежда Киплинга на то, что Запад придет на Восток и они взаимно обогатятся, оказалась еще более наивна, чем миф о Прометее, который в «Книге джунглей» травестируется. И слава Киплинга оказалась так коротка потому, что пришлась на тот период мировой истории, тот промежуток, о котором Томас Пинчон в романе «Against the Day » – «День упокоения» («На день погребения Моего» в другом переводе) говорит: «Дойдя до развилки, выбирай развилку». Это период примерно с 1894 года по 1914-й, пока не случилась Первая мировая война, которая положила конец личностному мифу, положила конец истории, как мы ее знали, и привела к веку масс, к веку неумолимой последующей деградации.
Все главные великие идеи XX века зародились в этот прекрасный двадцатилетний промежуток. В этот период произошла индустриализация Америки, в этот период зародилась русская идея свободы, в этот же период зародились и разного рода националистические утопии, тоже довольно опасные и довольно притягательные. Никогда еще мир не достигал такого интеллектуального, эмоционального, формального, если угодно, развития, как в этот двадцатилетний короткий трагический промежуток. Трагический прежде всего потому, что в нем чувствовался предел утонченности.
Киплинг – фигура пограничья между XIX и XX веками, между Востоком и Западом. На этом пограничье он и застыл.
Что такое его Маугли? «Маугли» в переводе якобы с одного из индийских наречий – «лягушонок»: есть такая амфибия, способная жить и на земле, и в воде, дышать и легкими, и жабрами, и ночью, и днем, в общем, странный такой, промежуточный, гибридный персонаж, как сказали бы сегодня. Но и Маугли – тоже персонаж переходной эпохи, персонаж, когда Киплингу действительно искренне верится, что, если мальчик пойдет в джунгли (понимай – если англичанин пойдет на Восток), из этого выйдет какая-то живая целостность. То, что у Маугли нет не только будущего, но, по всей видимости, и прошлого, Киплингу стало ясно только под конец. И поэтому финал этой истории, в общем-то, трагичен.
Киплинг и сам по себе сочетает несочетаемое. С одной стороны, это человек железной воли, полностью контролирующий свою эмоциональную сферу, гениальный журналист фантастической плодовитости, чьи путевые заметки расходятся огромными, небывалыми тиражами. Человек, который получает самые высокие гонорары в Британской империи и пользуется самой большой прижизненной славой.
С другой стороны, Киплинг – ребенок-одиночка, очкарик, который из-за близорукости не смог сделать военную карьеру. Киплинг до конца жизни страдает бессонницей и мигренями из-за того, что из родительского дома попал в пансион, где с ним дурно обращались; автобиографический рассказ «Мэ-э, паршивая овца» – одна из самых подробных и самых убийственных хроник школьной травли. Киплинг всю жизнь переживает тяжелейшие личные удары: теряет дочь, умершую от пневмонии, теряет любимого друга-соавтора, теряет сына, на могилу которого не может даже прийти, потому что тело так и не найдено. В одной из «Эпитафий войны» (1919) он с горечью написал от лица солдат, погибших в Первую мировую: «Если кто-то спросит, почему мы погибли, / Ответьте им: потому что наши отцы лгали нам».
Но вопреки всему Киплинг продолжал делать свое дело и оставаться собой. Ему это было очень трудно: пограничная фигура всегда получает с двух сторон. При публикации практически всех его текстов Киплинга встречал как залп дружного восторга, так и точно такой же залп критического неодобрения. «Прошлый раз меня гнали за то, что я человек. На этот раз – за то, что я волк», – мог бы сказать он вместе с Маугли.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

![Тед Хьюз - Новые стихи [Иностранная литература]](/books/371989/ted-hyuz-novye-stihi-inostrannaya-literatura.webp)

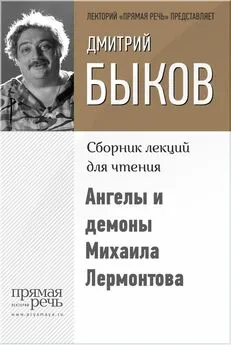
![Чарльз Буковски - Рассказы журнала [Иностранная литература]](/books/587604/charlz-bukovski-rasskazy-zhurnala-inostrannaya-lite.webp)

![Дмитрий Быков - Советская литература: мифы и соблазны [litres]](/books/1068513/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn.webp)



