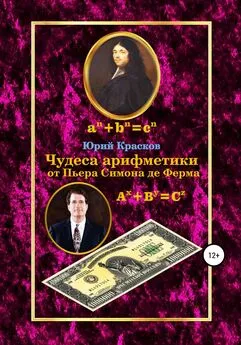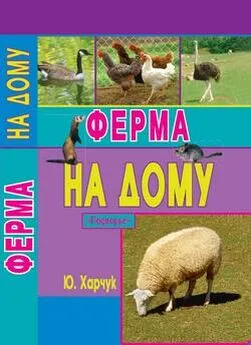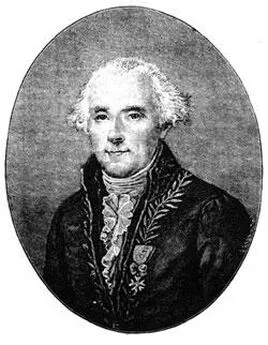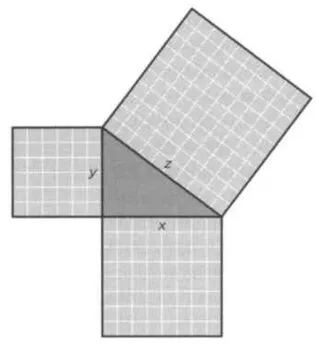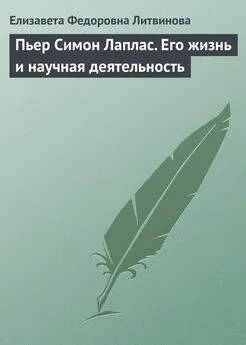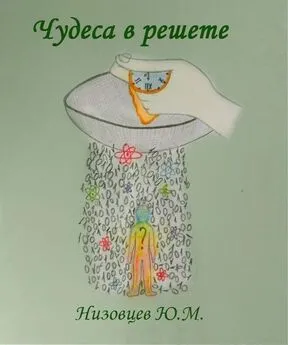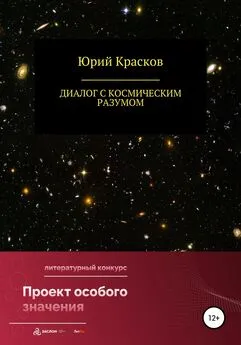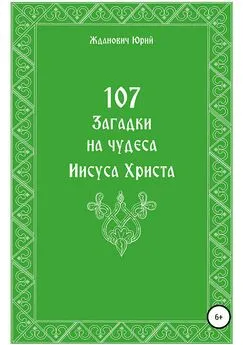Юрий Красков - Чудеса арифметики от Пьера Симона де Ферма
- Название:Чудеса арифметики от Пьера Симона де Ферма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:978-5-532-98628-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Красков - Чудеса арифметики от Пьера Симона де Ферма краткое содержание
Чудеса арифметики от Пьера Симона де Ферма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если уж так случилось, то ещё тогда в 1847 году эти самые «комплексные числа» нужно было со всеми почестями торжественно похоронить. Но вот с этим делом как-то совсем не заладилось и неупокоенные души давно умерших теорий оказываются настолько живучими, что их никакими силами не удаётся изгнать из учебников и профессорских лекций. Они будут кочевать по разным книгам и справочникам, авторы которых будут в полном неведении, насколько их труды обесцениваются от этого никому не нужного балласта.
В упомянутой книге Сингха хорошо показано как неоднозначность разложения составных целых чисел на множители лишает возможностей построить логические заключения в доказательствах и там же сообщается о том, что теорема об однозначности такого разложения для натуральных чисел была дана ещё в «Началах» Евклида. Конкретная книга и место расположения в теоремы не указано, поэтому найти нужный текст довольно сложно, однако это действительно оказалось так 18 18 Теорема и ее доказательство даётся в «Началах» Евклида книга IX, предложение 14. Без этой теоремы решение преобладающего множества арифметических задач становится либо неполным, либо вообще невозможным.
.
Рис. 25. Евклид
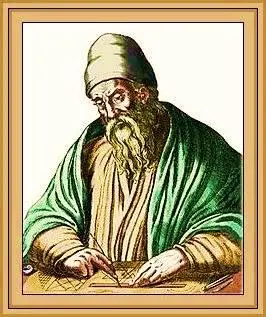
«Начала» Евклида» – очень старая книга с архаичной терминологией, в которой эта исключительно важная для науки теорема как-то затерялась и о ней просто забыли. Первым обнаружил пропажу Гаусс. Он сформулировал её вновь и дал доказательство, содержавшее на удивление простую и даже детскую ошибку, при которой в качестве аргументации используется как раз то, что нужно доказать, (см. п. 3.3.1).
Но ведь это же не рядовая теорема, на ней держится вся наука! А что же у Евклида? О, Господи! По сути, его доказательство такое же, как у Гаусса, т.е. ошибочное!!! Рассказать кому, так ведь и не поверят! На одном и том же месте споткнулись аж три гиганта науки: Евклид, Эйлер и Гаусс! Но тогда выходит, что вся эта наука липовая, а теперь, благодаря книге Сингха и вопреки всем благим намерениям автора, эта наводившая на всех ужас ВТФ, которая теперь даже в теории стала вообще недоказуемой, рассвирепела так, что, как истинное чудовище, одним махом обесценила все вековые труды учёных! Но они-то живут не в сказочном, а в настоящем королевстве кривых зеркал, и сами-то ещё ничего об этом не знают.
Фиаско, которое потерпели академики Коши и Ламе, не привело к отказу от использования в науке суррогатов чисел, тем более, что сокрушивший их работы Куммер нашёл способ, позволяющий, (при небольшой модернизации), доказывать ВТФ для любого конкретного частного случая. До окончательной победы над ней оставалась лишь самая малость – получить единое общее доказательство. С тех пор прошло уже 170 лет, а воз и ныне там. Поддержанные в своё время гением Эйлера «комплексные числа» и в наши дни представляются как некое расширение понятия числа. Это выглядит очень внушительно и солидно, но всё же требует чёткого определения самого этого понятия. А вот как раз с этим дела совсем плохи.
Студенты, интуитивно чувствующие, что их понапрасну мучают той самой филькиной грамотой про какие-то несуществующие числа, возьми, да и спроси: «А что такое число?» Им и невдомёк, что ни один профессор ничего путного ответить на этот вопрос не может, даже если он перечитал всё, что только есть по математике. Один из них всё же не выдержал издевательских намеков и издал целую книжку под названием «Что такое число?» [13, 29]. В ней он столько всего понаписал, что студенты чётко усвоили – такой вопрос лучше не задавать.
Тем временем учёные продолжали двигать науку вперед, не заморачиваясь на таких мелочах как сущность понятия числа. Так они насоздавали целую кучу всяких новых алгебр, пользуясь тем, что никаких препятствий на этом пути не было. Но они не были продолжением вот той, настоящей, основателем которой был первый королевский математик Франсуа Вие́т (François Viète), служивший советником при дворе французского короля Генриха III. Но если эти новые алгебры особые, то их терминология и основы тоже особые.
Рис. 26. Франсуа Вие́т
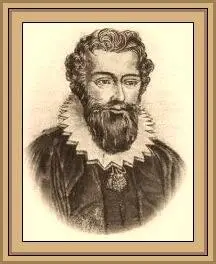
Так потихоньку в науке стал формироваться некий особенный птичий язык, понятный только авторам этих самых что ни есть новаторских разработок. Дошло даже и до того, что стали появляться математические сообщества, творящие науку только для самих себя любимых и вдобавок к этому из ничего стали появляться новейшие числа: «гиперкомплексные», «кватернионы», «октонионы», и т.п. Правда, впечатление от новинок портил нет-нет, да и высовывающийся неизвестно откуда тот самый кобылий хвост 19 19 Советский математик Лев Понтрягин показал, что эти «числа» не обладают базовым свойством коммутативности, т.е. для них ab ≠ ba [34]. Следовательно, одно и то же такое «число» нужно представлять только в виде, разложенном на множители, иначе в нём будут одновременно разные величины. Когда в оправдание подобных творений говорят, что математикам не хватает каких-то чисел, то на деле это может означать, что им явно не хватает разума.
. Получать этим хвостом по фэйсу не очень-то приятно, но это уже издержки профессии. В стремлении уйти от таких издержек, был найден просто блестящий выход из затруднений с определением сущности понятия числа. Учёные наконец-то осознали, что его нужно выводить из других более простых понятий, например, таких, как понятие «множество». Всё оказалось так просто! Множество – это то, чего много. Ну разве не понятно? Однако опять получилось так, что без пустых множеств никак не обойтись, а в этом случае много может означать ничего и снова возникает вопрос, так что же это такое множество, число или нет?
Рис. 27. Георг Кантор
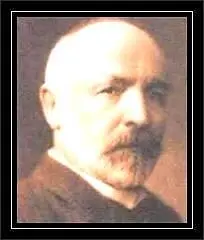
Георг Кантор (Georg Cantor) разработал свою теорию множеств, которую другие математики, такие как, например, Анри Пуанкаре́ (Henri Poincaré), обзывали всякими нехорошими словами и никак не хотели признавать. Но вдруг неожиданно для всех респектабельное «Лондонское королевское общество», (английская академия наук), в 1904 году взяло, да и наградило Кантора своей медалью. Так вот оказывается, где решаются судьбы науки! 20 20 Если какой-то очень уважаемый общественный институт поощряет таким образом развитие науки, то что на это можно возразить-то? Однако вот такая возникающая невесть откуда щедрость и бескорыстность со стороны непонятно откуда взявшихся благодетелей выглядит как-то странно, если не сказать заведомо предвзято. Ведь с давних пор хорошо известно, откуда берутся и куда приводят подобные «благие намерения», да и результат этих деяний тоже очевиден. Чем больше возникает учреждений для поощрения учёных, тем в большей степени реальная наука оказывается в руинах. Чего стоит одна только нобелевская премия за «открытие», подумать только … ускоренного разбегания галактик!!!
И всё было бы хорошо, да вдруг опять стряслась ещё одна беда. Откуда ни возьмись, в этой самой теории множеств стали появляться непреодолимые противоречия, о которых также очень подробно рассказывается в книге Сингха. В научном сообществе сразу все переполошились и стали думать, как эту проблему решать. А она упёрлась как в стенку и никак не хотела решаться. Все как-то приуныли, но потом всё-таки опять воспряли.
Интервал:
Закладка: