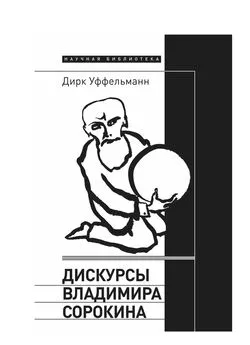Дирк Уффельманн - Дискурсы Владимира Сорокина
- Название:Дискурсы Владимира Сорокина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2022
- ISBN:978-5-4448-1669-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дирк Уффельманн - Дискурсы Владимира Сорокина краткое содержание
Дирк Уффельманн — профессор Института славистики Гисенского университета им. Юстуса Либиха.
Дискурсы Владимира Сорокина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В России первые критики, писавшие о «Льде» и «Пути Бро», по-разному отвечали на вопрос, что считать главным в трилогии. Тематическую новизну и метафизические устремления93 7 (просектантская трактовка)? Или развенчание высокомерия и бесчеловечности фанатичного братства938 (антисектантская трактовка939)?
Диаметрально противоположные интерпретации романа напоминают прежнюю дихотомию буквального («отвратительно») и металитературного прочтения текстов Сорокина. Любопытно здесь участие в дискуссии самого автора. Уже в марте 2002 года в интервью, которое писатель дал как раз перед публикацией «Льда» и которое было озаглавлено «Прощай, концептуализм», сам Сорокин словно бы недвусмысленно высказался в поддержку метафизического и этического толкования: «Я попрощался с концептуализмом. Мне хотелось двигаться в сторону нового содержания, а не формы текста»940. Не принимая это заявление на веру, Ольга Богданова утверждает, что Сорокин в этой реплике слукавил в ответ на аналогичные заявления других критиков. К последним можно отнести Михаила Эпштейна и Дмитрия Кузьмина, увидевших в современной русской поэзии исполненный нежной ностальгии, возвращающийся к индивидуальному началу «постконцептуализм»941. Это одна из причин, по которым не стоит «слепо доверять» интервью Сорокина942. Другие исследователи соглашаются, что Сорокин играет с «новой искренностью» в духе «концептуальной исповедальности», притворного маньеристского жеста943. Если принять этот тезис, Сорокин обновляет уже хорошо знакомую «концептуалистскую мифопоэтику»944 московского концептуализма и «Медицинской герменевтики» в русле постмодернистского перформанса945.
Сразу после публикации «Льда» Сорокин был по-прежнему открыт для разных интерпретаций и не предложил собственной версии. Он даже обмолвился: «Получилась странная книга, мне не до конца понятная»946. Однако в интервью 2003-2004 годов он начал утверждать, что метафизические искания — ключевая тема «Льда»: «<...> „Лед" — книга о вечном»947; «„Лед 44— метафизический роман»948. Создавалось впечатление, что он сочувствует тоталитарной секте: Я — не член описанного в романе братства, многое в героях мне чуждо. Я им, безусловно, сочувствую как людям, пытающимся исправить свою природу. Их мучительный путь к счастью вызывает у меня слезы. Мне их просто жалко949. Но в том же интервью Сорокин отмечает, что принадлежит к другому лагерю: «<...> Я не брат Света, я скорее мясная машина»950.
В интервью Сорокин упоминает и стремление к эмоциональной искренности, перекликающееся с пафосом заявлений сектантов о сердечной любви: «Я хочу <...> [б]ыть по-настоящему, метафизически честным»951. Автор даже подражал своим персонажам, практикуя вегетарианство примерно в те же годы, когда он работал над трилогией952. По мнению Эллен Руттен, в середине 2000-х годов все чаще казалось, что Сорокин хочет примкнуть к более широкому антипостмодернистскому течению нового сентиментализма953. Одиннадцать лет спустя Руттен отметила, что в интервью того времени Сорокин «выражает взгляды, в которых проступает зловещее сходство со взглядами его [вымышленной] секты»954, и «недвусмысленно прибегает к традиционному лексикону искренности в искусстве»955. Если даже можно обнаружить в интервью Сорокина подобные утверждения, они, как правило, сопровождаются неоднозначными оговорками:
Я люблю искренних людей, которые внутренне не механистичны и живут не как машины. <...> в итоге [я] остался на стороне людей, на стороне «мясных машин»956.
Такого рода высказывания повергают комментаторов текстов Сорокина в недоумение: считать ли его этические претензии на чистосердечие в романах и интервью «притворными или искренними? Этот вопрос красной нитью проходит через историю восприятия романов»957.
Конфликт между искренним отождествлением и концептуалистским дистанцированием достиг кульминации, когда Сорокин напрямую вступил с литературоведами в диалог об адекватной интерпретации своего замысла. Прежде он всегда отрицал, что художественное произведение можно анализировать в соответствии с предполагаемыми намерениями автора. Теперь же Сорокин откликнулся на интерпретации Василия Шевцова958 и Игоря Смирнова959, настаивая на правомерности собственной трактовки своих произведений.
В статье, напечатанной в юбилейном сборнике в честь Дагмар Буркхарт, Игорь Смирнов предложил деконструктивистское прочтение новых и крайне незамысловатых принципов письма, рассчитанных на массового читателя: За банальным идейным оснащением романного сюжета об избранниках <...> Сорокин деконструирует идею спасения человечества через селекцию его лучших пред став ителей960.
После выхода «Пути Бро» в октябре 2004 года Смирнов еще более категорично отверг постулируемый автором интерес уже не к форме, а к содержанию, заявив, что метафизическое содержание романа «скучновато»961 и малоинформативно: «Тем, кому знаком „Лед" (2002), „Путь Бро" как будто не дает сколько-нибудь значительной информации»962. Смирнов даже высказывает мысль, что этот «трансинформативный» роман — пародия на литературность как таковую: «<...> „Путь Бро" <.. .> разрушительно пародирует самое литературность <...>»963. В такой интерпретации второй роман трилогии имеет смысл рассматривать только на концептуальном уровне, как отрицание базового требования семиотики — информативности: «Текст информативен, будучи отрицанием самой информативности»964.
Смирнов — старый друг Сорокина. Обычно автор встречал его концептуальные и металитературные толкования своих произведений молчаливым согласием. Однако на этот раз утверждения о трансинформативной скуке, по-видимому, расстроили Сорокина. В статье «Меа culpa?», опубликованной в «Независимой газете» от 14 апреля 2005 года, Сорокин, отвечая и Шевцову, и Смирнову, советует не судить о его более поздних текстах по ранним и возражает против метаэстетической интерпретации: <...> Не для того я садился писать биографию Саши Снегирева, нашедшего космический Лед, прикоснувшегося к нему и переродившегося в нечеловека, чтобы всего лишь «занудно и неинформативно» посмеяться над консумирующим обществом. <...> Да, когда-то в романе «Роман» я столкнул два стиля, как два чудовища, дабы они пожрали друг друга и выделилась та самая энергия аннигиляции и очищения языка, доставившая мне колоссальное удовольствие. Но подобные эксперименты волновали меня в середине 80-х. «Лед» и «Путь Бро» построены совсем по-другому965.
В 2000-е годы споры вокруг «Льда» заняли такое важное место в изучении творчества Сорокина, что Борис Соколов решил включить их в качестве приложения в свою монографию «Моя книга о Сорокине»966. За пределами России исследователи были менее склонны выбирать одну из двух трактовок. Для них вопрос, кто прав — Смирнов, рассматривающий «Путь Бро» как «разрушительную пародию на литературность», или спорящий с таким подходом автор, — не требует однозначного ответа967. Главное — сама возможность как буквального, так и металитературного прочтения. В то время как Маттиас Огрен полагает, что трилогии присущи «черты как утопии, так и антиутопии»968, а Марк Липовецкий утверждает, что изложенный в трилогии постмодернистский миф неизбежно деконструирует себя вне зависимости от предполагаемых или заявленных намерений автора969, Эллен Руттен, как и я сам, уверена, что оба толкования сосуществуют, оспаривая друг друга, и читатель должен выбрать, какое из них представляется ему более обоснованным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: