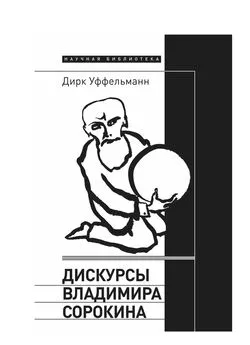Дирк Уффельманн - Дискурсы Владимира Сорокина
- Название:Дискурсы Владимира Сорокина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2022
- ISBN:978-5-4448-1669-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дирк Уффельманн - Дискурсы Владимира Сорокина краткое содержание
Дирк Уффельманн — профессор Института славистики Гисенского университета им. Юстуса Либиха.
Дискурсы Владимира Сорокина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Четвертая часть возвращает нас к дискурсу художественной литературы: текст завершается коротким эпизодом, в котором мальчик, проснувшись утром, обнаруживает вместо родителей элементы «Оздоровительной системы „LED"», описанной в третьей части, и кусочек льда. Поскольку мальчик не знает, как обращаться с этим агрегатом, заключает роман натюрморт с игрушками и тающим льдом, о смысле которого читателю предоставляется догадываться самому: «Лед лежал рядом с динозавром, высовываясь из-под одеяла. Солнечный свет блестел на его мокрой поверхности»851. Сентиментальный, словно бы игрушечный натюрморт852 резко контрастирует с грубым языком первой части романа, пафосом второй и экзальтированными комментариями пользователей в третьей. Это самая удачная часть всей трилогии, где текст обретает символическую насыщенность традиционной литературы.
Если бы роман заканчивался руководством по эксплуатации из третьей части, можно было бы сказать, что финал «Льда» схож с уничтожением литературности в конце «Романа» или «Тридцатой любви Марины». Но линейное повествование во второй части и большинстве фрагментов первой, наряду с открытым финалом последней, не позволяют говорить об аналогичной утрате текстом литературного измерения. Эта особенность заставила авторов, писавших о «Льде», например Константина Кустановича и Кристиана Кэрила, предположить, что этим романом Сорокин «завершает переход к изобразительной литературе»853 и к «более традиционному модусу повествования»854. «Лед» неожиданно обеспечил Сорокину и симпатию со стороны прежде недоброжелательных к нему рецензентов855.
Если критики, ранее настроенные скептически, в частности Евгений Ермолин, на этот раз отозвались о книге куда менее резко, другие группы читателей встретили роман с явной враждебностью. Теперь недовольство читателей Сорокина было вызвано не столько стилистическими, сколько идеологическими причинами. Американский критик Элизабет Ким почувствовала себя оскорбленной «его незрелыми, неимоверно утомительными, бесконечными садистскими фантазиями», которые, по словам Ким, пробуждают в ней «желание жечь книги»856. Многие рецензенты задавались вопросом, как относиться к фанатизму, расизму и терроризму в фабуле романа857, замечая, что торопливый повествователь, не моргнув глазом, забывает о невезучих жертвах, чье сердце, когда их бьют ледяным молотом, не начинает говорить в ответ на эту мучительную процедуру858. Фанатики-сектанты считают не способных отозваться жертв представителями низшей расы, смерть которых не имеет значения, потому что в метафизическом смысле они мертвы с рождения: «Абсолютное большинство людей на нашей земле — ходячие мертвецы. Они рождаются мертвыми, женятся на мертвых, рожают мертвых, умирают <...>»859. Из текста мы узнаем, что в 1950 году, когда сектанты вели поиски в Советском Союзе, выжили только двое из двухсот «расколотых»860. Тысячи людей, не принадлежащих к избранным, признанных «пустыми» и умирающих в процессе отбора, дегуманизированы до уровня отбросов: «Сколько же вас, пустозвонов, понастругали...»861. Буквально за несколько минут до превращения из Вари в Храм героиня второй части воспринимает происходящее как казнь и возмущается бездушием палачей: «Вот гады проклятые»862.
Вызывает вопросы и отождествление Сорокиным путешествия по СССР, которое в 1950-1951 годах предпринимают «говорящие сердцем», с «мясорубкой <...> репрессивного аппарата» Берии863. Сорокин прибегает к метонимическому переносу, в результате которого тоталитарная секта обрастает негативными ассоциациями с СС и НКВ864Д, но при этом воздерживается от прямого морального осуждения центрального действия трилогии — «раскалывания» ледяным молотом, в 99 процентах случаев кончающегося летальным исходом. Декорации, в которых разворачиваются события во второй части, живо напоминают постсоветскому читателю и презрение к человечеству, приписанное Сталину Анатолием Рыбаковым в романе «Дети Арбата» (издан в 1987 году865), который Сорокин мимоходом цитирует в одном из афоризмов, данных прописными буквами в третьей главе первой части: «НЕТ ЧЕЛОВЕКА — НЕТ ПРОБЛЕМЫ»866.
Особенно провокационно выглядит расовый аспект отбора. Людей, среди которых ищут потенциальных членов братства, отбирают по расовому признаку: «Мы голубоглазые и светловолосые»867. Повествователь и здесь избегает открыто осуждать расистские мифы о превосходстве «арийцев», но диалоги в третьей главе первой части указывают на взаимосвязь между русским эзотерическим дискурсом и теориями заговора, которые имеют прямое отношение и к антисемитизму868. Позже Сорокин с такой же неоднозначностью изобразит эзотерико-расистский культ Сибири в фильме «Мишень», отсылающем к раскопкам поселения Аркаим на территории Челябинской области869, и в «Теллурии» (2013) с ее алтайской мифологией.
Однако процесс отбора в трилогии неизбежно вызывает ассоциации с политикой «расовой гигиены», которую национал-социалисты проводили ради сохранения чистоты привилегированной арийской расы870. Различные мотивы в тексте «Льда», связанные с нацистами, укрепляют эту ассоциацию. Так, рассказ Храм о ее обращении начинается с описания оккупации немцами западных территорий Советского Союза в 1941 году. Немецкие фразы, записанные кириллицей и порой содержащие грамматические ошибки («Дас ист шене Вин»871), создают своего рода местный колорит в изображении оккупированных земель. К тому же именно эсэсовцы пробуждают Храм, становясь, таким образом, первыми «избранными», появляющимися на страницах будущей трилогии в тексте 2002 года, хотя в издании 2004 года история обращения Бро в Сибири была добавлена в качестве приквела. Наконец, об «избранных» немцах прямо сказано, что они «белобрысые» и с «голубыми» глазами872.
Получается, что идеальное благо, к которому стремятся немногочисленные избранные фанатики в романе «Лед», — фантастическое зло с гуманистической точки зрения. Во второй части будущей трилогии, «Пути Бро», прямо сказано, что избранное меньшинство ведет «войну против рода человеческого»873. Эта часть трилогии — «единое чудовищное видение»874, показанное глазами убийц875, и читателю приходится мучительно воспроизводить его перед своим внутренним взором876. Этот литературный прием Сорокин отшлифует в 2006 году в «Дне опричника», где повествование ведется от имени палача. Перед читателями трилогии встает важный вопрос: может ли метафашистский нарратив Сорокина оставаться чуждым тому дискурсу, который он имитирует? Происходит ли в романе «Лед» «субверсивная аффирмация» фашистской идеологии, как это было в случае с материализацией в текстах Сорокина жестокости, заложенной в соцреализме? В случае «Льда» проблему усугубляют два обстоятельства: высказывания самого Сорокина о том, что двигало им при написании книги, и тот факт, что он развивает этот мотив на протяжении семисотстраничной трилогии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: