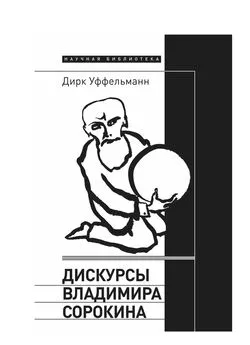Дирк Уффельманн - Дискурсы Владимира Сорокина
- Название:Дискурсы Владимира Сорокина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2022
- ISBN:978-5-4448-1669-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дирк Уффельманн - Дискурсы Владимира Сорокина краткое содержание
Дирк Уффельманн — профессор Института славистики Гисенского университета им. Юстуса Либиха.
Дискурсы Владимира Сорокина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В «Дне опричника» Сорокин изображает физические и психологические средства, с помощью которых репрессивные социальные нормы навязываются в неототалитарном обществе. Если в «Норме», одной из своих ранних книг, Сорокин показывал послушное молчаливое следование не подлежащим сомнению нормам, не вдаваясь в механизмы, стоящие за такой моделью поведения, то в «Дне опричника» он, наоборот, непосредственно рисует процесс навязывания социальных норм насильственными методами. Действие происходит зимой 2027-2028 года (сам Сорокин в интервью называет обе даты986, а рассказчик упоминает недавние события ноября 2027 года987). События разворачиваются в вымышленном мире, где в России недавно вновь утвердилась монархия, а социальные, юридические и эстетические нормы еще незрелы и их приходится постоянно укреплять988. Опричники — представители репрессивного монархического режима, но из их внутренних монологов ясно, что новые нормы введены совсем недавно и пока еще не воспринимаются как абсолютные. По словам Тине Розен, опричник «самозабвенно отождествляет себя с теми, кто занимает более высокое положение в иерархии, и их большей (по определению) мудростью»989. Такое преувеличенное самозабвение рождает многочисленные комические коллизии и столкновения990, хотя Комяге, от лица которого ведется повествование, чувство юмора явно несвойственно.
«День опричника» — наиболее последовательный «текст преступника» в творчестве Сорокина991, уступающий в этом смысле только финалу «Романа», где описано массовое убийство Романом всех жителей деревни. Вся повесть написана с точки зрения поборника репрессивной системы. С позиции жертв опричник — несомненный агрессор. Повествование охватывает двадцать четыре часа из жизни одного из главных ревнителей порядков будущего тоталитарного государства, один, как явствует из названия, типичный день. Типичность подчеркивается и за счет аллюзии к другой повести, действие которой разворачивается на протяжении суток и которая тоже обладает отчетливым политическим подтекстом, — «Одному дню Ивана Денисовича» Александра Солженицына (1962). Главное и очевидное отличие заключается в том, что в повести Сорокина изображена точка зрения того, кто вершит расправу, тогда как Иван Шухов, герой повести Солженицына, — жертва тоталитарного режима992. Единственное интертекстуальное сходство между зэком Шуховым и стражем порядка Андреем Даниловичем Комягой — любовь к аккуратно уложенным кирпичам993.
В противовес почти всем предшествующим романам Сорокина, за исключением «23 ООО», «День опричника» — психологическое произведение, раскрывающее мысли и взгляды палача. Особенно любопытна попытка опричника убедить себя в справедливости репрессивных норм, которым он следует, когда убивает, насилует и поджигает, одновременно вымогая подати, требуя взяток и конфискуя наркотики. Несмотря на попытки «заковать себя в броню осознанного бесчувствия», Комяга в монологе употребляет «лицемерные формулировки»994 для обоснования жестокости, например императив: «А коли замахнулся — руби!» (самоцитата из «Романа»)995. Повествование от первого лица побуждает к психолингвистическому прочтению — акцент сделан на стремлении задушить в себе сострадание и угрызения совести.
У Сорокина подавляемый другой в сознании представителя тоталитарного режима наделяется сходством с либерально и критически настроенными людьми прошлого. В памяти опричника еще живы примеры критики тоталитаризма, в том числе стихотворение Осипа Мандельштама — жертвы сталинских репрессий — «Ариост» (1933):
<.. .> я принципиально не согласен с циником Мандельштамом — власть вовсе не «отвратительна, как руки брадобрея». Власть прелестна и притягательна, как лоно нерожавшей златошвейки996.
Ощущая потребность в самооправдании, Комяга и его соратники-опричники сразу же после изнасилования и убийства спешат в Успенский собор, где Комяга особенно истово молится997. Другим важным фактором, успокаивающе воздействующим на психику агрессоров, оказывается корпоративный дух группы опричников с их телесным культом русской маскулинности («<...> из одного русского теста слеплены»)998. Поддержанию этого духа способствуют ритуальная формула «Гойда! Гойда! Гойда!», которую они всегда произносят трижды999, коллективное употребление наркотиков и гомосексуальная оргия, которую они называют «гусеница опричная» 1000. Эти коллективные действа сплачивают опричников в изображенное с неприкрытой сатирой «тело нации», наполняя их благоговением перед величием 1001.
Символы реальной опричнины, собачья голова и метла, прикреплены к «мерседесу» («мерину») 1002 протагониста. Опричники слепо подчиняются монарху, занимающему трон по праву наследства1003: «<.. .> за взгляд этот я готов не колеблясь отдать жизнь свою» 1004. Из их культа Царя рождается националистический дискурс: «<...> Государь наш жив-здоров, а главное — Россия жива, здорова, богата, огромна, едина, <...> матушка <...>»1005. Общая преданность монарху и тоталитарному режиму предполагает псевдосакрализацию власти 1006, порой напоминающую национал-социализм (как все тот же троекратный возглас «Гойда!»), в связи с чем перевод книги на немецкий язык вызвал некоторые трудности 1007. Однако подобных намеков в «Дне опричника» намного меньше, чем в «Трилогии», да и сам автор в интервью никак их не подтверждал. Наоборот, комментируя «День опричника» в 2006 и 2007 годах, Сорокин совершенно однозначно выразил несогласие с репрессивной государственной системой и ее жестокостью, воплощенной в его вымышленном антигерое Комяге.
Россия 2027/2028 года отгородилась от окружающего мира стенами 1008. Граждан этого закрытого государства заставили сжечь загранпаспорта! 009. Внешняя торговля, по крайней мере с западными странами, прекращена. Комяга без малейших колебаний расточает похвалы отцу нынешнего царя за введенную им закрытую экономику:
Хороша была идея отца Государева, упокойного Николая Платоновича, по ликвидации всех иноземных супермаркетов и замены их на русские ларьки. И чтобы в каждом ларьке — по две вещи, для выбора народного. Мудро это и глубоко. Ибо народ наш, богоносец, выбирать из двух должен, а не из трех и не из тридцати трех 1010.
Но соблазн конкурирующего западного дискурса остается: хотя Комяга и боится антирусской пропаганды, он слушает «Голос Америки» из любопьітстваЮІ 1, но добросовестно отрицает услышанное по радио. Одним из инструментов, к которым он прибегает, чтобы избавиться от голоса другого в себе, становится поощряемый государством антисемитизм1012, проецируемый Комягой, например, на «узкогрудого очкарика-иуду»1013 из международной немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: