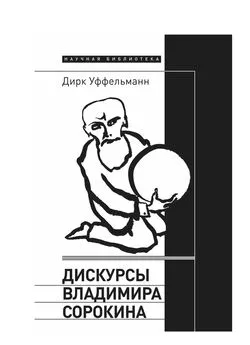Дирк Уффельманн - Дискурсы Владимира Сорокина
- Название:Дискурсы Владимира Сорокина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2022
- ISBN:978-5-4448-1669-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дирк Уффельманн - Дискурсы Владимира Сорокина краткое содержание
Дирк Уффельманн — профессор Института славистики Гисенского университета им. Юстуса Либиха.
Дискурсы Владимира Сорокина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В 2008 году вышел сиквел «Дня опричника» — сборник «Сахарный Кремль», состоящий из пятнадцати рассказов. В нем представлена еще одна картина дистопического «Нового Средневековья», на этот раз датированная 23 октября 2028 года. В центре «Сахарного Кремля» — ужасающая нищета и каждодневные страдания населения, а действие снова происходит в деспотическом государстве недалекого будущего, где иссякли нефть и газі 134. Односторонний монолог палача дополнен точками зрения занимающих подчиненное положение жертві 135. Сахарный Кремль, давший название сборнику, не только декоммунизированный фетиш, перекрашенный, как и в «Опричнике», в белый цвет, но и леденец, бесплатно раздаваемый гражданам для приема внутрь 1136 как пропаганда и почитаемый ее покорными потребителями как святыня 1137. Контраст между сакрализацией власти и бедностью, в которой живут люди при репрессивном режиме, «развенчивает созданный Комягой миф о [могуществе и процветании репрессивной] России» 1138. Дискурс тоталитаризма снова выступает здесь как метадискурс, а не как историческое «отображение действительности» путинизма до 2006 года.
Глава 11. «Метель» и автоаллюзии метаклассика
Сорокин никогда не останавливался перед использованием банальных стереотипов, связанных с Россией 1139, будь то водка и соленые огурцы в Hochzeitsreise, деревня в книге «В глубь России» 1140 или сибирский лед в «Трилогии»1141. Когда в конце марта 2010 года повесть Сорокина «Метель» вышла в карманном (13 на 17 см) 303-страничном издании, центральная для нее метафора снежной бури заставила некоторых читателей думать, что Сорокин в очередной раз обратился к дискурсам о русской зиме 1142. Однако налицо по меньшей мере одно существенное отличие: если льду, упавшему вместе с Тунгусским метеоритом, приписывались живительные чудодейственные свойства, то метель, давшая название повести, явно губительна для всех персонажей.
Тема смертельно опасной пурги, очевидно, встречается во многих более ранних произведениях русской литературы 1143. Анализируя «Метель» Сорокина, литературоведы перечисляют относящиеся к этому пласту тексты. Наталья Андреева и Екатерина Биберган, перечисляя содержащиеся в повести аллюзии, указывают на высокую степень интертекстуальности: «Обилие интертекста („чужого текста") в повести <...> Сорокина обращает на себя внимание» 1144. Российские исследовательницы упоминают в основном русские пратексты, в том числе роман «Гиперболоид инженера Гарина» А. Н. Толстого (1927), рассказ А. П. Чехова «Ионыч» (1898), повесть А. С. Пушкина «Метель» (1831) и рассказ Л. Н. Толстого с тем же названием (1856), ряд «вьюжных» стихотворений М. Ю. Лермонтова и С. А. Есенина и множество разбросанных по тексту отсылок к классическим реалистическим произведениям, таким как «Отцы и дети» И. С. Тургенева (1862) или «Униженные и оскорбленные» Ф. М. Достоевского (1861), и так далее. Хотя Андреева и Биберган не утверждают, что их список — исчерпывающий, поразительно, что авторы упускают из виду другой рассказ Льва Толстого, «Хозяин и работник» (1895): хотя название рассказа не отсылает напрямую к метели, его более чем уместно вспомнить в данном контексте. В этой главе я попытаюсь показать, что «Метель» Сорокина с ее завораживающим калейдоскопом интертекстуальных аллюзий следует рассматривать в первую очередь как попытку переписать «Хозяина и работника» и как сжатую трактовку Сорокиным этических воззрений Толстого.
Как можно было заметить по предыдущим главам этой книги, Лев Николаевич Толстой (1828-1910), автор реалистических романов, моралист и религиозный философ, остается неизменным «конкурентом» Сорокина. В «Голубом сале» есть зимний рассказ, написанный недоработанным клоном Толстым-41145, и сексуальная сцена, в которой несовершеннолетняя крестьянская девочка Акуля мочится на старого князя, похожего на графа Толстого 1146. Имея в виду «Голубое сало», Сорокин сказал в интервью Елене Кутловской: «При помощи клонов можно многое сделать в литературе — стать Толстым, например. (Смеется)» 1147. Если это скорее юмористическое утверждение относится к литературным сюжетам, Екатерина Деготь, отталкиваясь от интертекстуальных отсылок Сорокина к Толстому, заметила, что все больше оснований считать статус двух писателей в истории русской литературы вполне сопоставимым: «<...> для объективной литературной истории Сорокин давно уже Толстой» 1148. Прежде чем перейти к разговору о соревновании двух писателей за звание классиков в истории литературы, посмотрим, как Сорокин в «Метели» «переписывает» «Хозяина и работника» Толстого, сопоставив два текста.
К 1895 году, когда был напечатан рассказ «Хозяин и работник», Толстой уже более чем на десять лет пережил свои собратьев по перу, Достоевского и Тургенева, и прославился на весь мир как русский писатель. В рассказе «Хозяин и работник», где действие происходит зимой, купец Василий Андреич Брехунов вместе со слугой Никитой садится в сани, направляясь к владельцу соседнего имения. Купец торопится, чтобы обогнать других потенциальных покупателей леса, который продает хозяин. В пути Брехунова и Никиту застигает пурга. Посреди ночи они блуждают по полям и случайно забредают в деревню, где находят приют в крестьянской избе. Еще до зари они покидают деревню, снова сбиваясь с дороги.
Никита, слишком легко одетый для такого зимнего путешествия, вот-вот замерзнет насмерть, потому что Брехунов один укрывается в повозке от ветра и холода 1149. Купец, движимый эгоистичным желанием выжить, пытается в одиночку ускакать на запряженной в сани лошади, оставив замерзающего Никиту в повозке. Лошадь вязнет в снегу, Брехунов спешивается, и конь растворяется в буране. Купец ходит кругами среди густого снегопада, плутает и в конечном счете возвращается к повозке, куда вернулась и лошадь, а Никиту тем временем уже засыпало снегом.
Хозяин и работник оказываются спаяны намертво. Перед лицом смертельной опасности стираются границы между сословиями. В конце концов купец спасает слуге жизнь, ложась на Никиту и отогревая его своим телом. Никита только теряет несколько отмороженных пальцев на ногах, а Брехунов гибнет. Он умирает, растроганный собственным поступком: Он понимает, что это смерть, и нисколько не огорчается и этим. И он вспоминает, что Никита лежит под ним и что он угрелся и жив, и ему кажется, что он — Никита, а Никита — он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. <.. .> «Жив Никита, значит жив и я», — с торжеством говорит он себе 1150. В рассказе Толстой трансформирует собственный постулат о любви к людям низшего сословия в нарциссическую самоотверженность представителя элиты, жертвующего жизнью ради простого человека 1151.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: