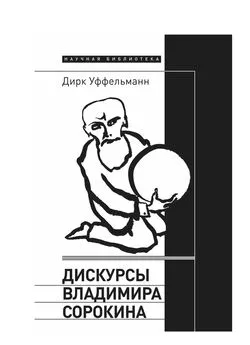Дирк Уффельманн - Дискурсы Владимира Сорокина
- Название:Дискурсы Владимира Сорокина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2022
- ISBN:978-5-4448-1669-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дирк Уффельманн - Дискурсы Владимира Сорокина краткое содержание
Дирк Уффельманн — профессор Института славистики Гисенского университета им. Юстуса Либиха.
Дискурсы Владимира Сорокина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В повести Сорокина «Метель», написанной в 2010 году, снежная буря, лежащая в основе сюжета, вынесена в название. «Хозяин» Толстого превращается в «дохтура» Платона Ильича Г арина, а работник — в хлебовоза Перхушу. Подобно толстовскому Никите, он услужлив и покладист, наивен и косноязычен. Прозвище возницы у Сорокина, Перхуша, созвучно фамилии купца Брехунова из рассказа Толстого — первый намек на то, что персонажи меняются ролями. Изменились и транспортные средства: вместо саней Гарин и Перхуша едут на «самокате», который тянут пятьдесят карликовых «лошадок», находящихся под его верхом 1152.
Доктором в повести Сорокина движет не меркантильный интерес, а гуманная миссия: он едет, чтобы провести вакцинацию среди жителей деревни, где вспыхнула эпидемия завезенной из-за границы болезни. С присущей нравственно-религиозным трактатам Толстого высокопарностью доктор у Сорокина говорит о себе так:
Например, я, доктор Г арин, Homo Sapiens, созданный по образу и подобию Божиему, сейчас еду по этому ночному полю в деревню, к больным людям, чтобы помочь им, чтобы уберечь их от эпидемии! 153.
Поездка Г арина в близлежащую деревню оборачивается бесконечными скитаниями в снежном вихре. Путешествие увлекает Гарина и в глубины собственного сознания, потому что доктор у Сорокина, как и булгаковский Михаил Поляков из «Морфия» (1927), употребляет наркотики и страдает от галлюцинаций 1154. Вполне возможно, что фантастические препятствия, встречающиеся на пути Гарина и Перхуши в «Метели», тоже связаны с галлюцинациями доктора и поэтому допускают психомиметическую трактовку1155.
В условиях лютого мороза интеллигент и простодушный возница в повести Сорокина начинают действовать сообща. После кошмаров, которые доктор видит в наркотическом трипе, выспренность его сентенций кажется особенно неуместной: «Все люди братья, Козьма <.. .>»1156. Но по мере того как положение становится все более безвыходным, взаимная солидарность сходит на нет: доктор несколько раз бьет своего провожатого 1157 и — как и купец Толстого — в конце концов бросает его одного в чистом поле 1158. Только простой человек оказывается способен к убедительным проявлениям братской любви (прежде всего к своим маленьким лошадкам), тогда как самоотверженная миссия доктора вызывает все большие сомнения, постепенно отступая перед его эгоистичными планами. Повесть Сорокина кончается смертью Перхуши; доктор же, несмотря на обморожение, выживает, спасенный загадочными китайскими торговцами. В отличие от Никиты в рассказе Толстого, он лишается не нескольких пальцев на ногах, а обеих ног. Вот почему, с точки зрения Павла Басинского, «„Метель" — переписанная повесть Толстого „Хозяин и работник" с противоположным финалом» 1159, а Алиция Володзько-Буткевич прямо относит ее к «жанру ремейков классики» 1160.
Интертекстуальные взаимосвязи между двумя текстами определяются как аналогиями, так и контрастом 1161. Параллелизм прослеживается не только на уровне сюжета 1162, но и нередко дополнительно материализуется в нарративе. Например, у Толстого купец думает: «Говорят, пьяные-то замерзают» 1163. Оба персонажа Сорокина разделяют эту мысль, а в повествовании она еще и отливается в фантастическую фигуру замерзшего великана с трехлитровой бутылкой водки, который встречается им позже, материализуя расхожее мнение, что русские много пьют 1164.
Инструментарий, используемый Сорокиным, мастером металитературы, для конструирования смыслообразующих интертекстуальных связей, отнюдь не ограничивается переплетением аналогии и контраста. В 2000 году Екатерина Деготь высказалась об этом аспекте творчества писателя с позиций читателей-интеллектуалов :
Творчество [Сорокина] высокотеоретично, он оперирует уже готовыми моделями, теоретическими и литературными, он привык к огромному количеству цитат, в том числе и литературоведческих, поэтому его тексты — рай для исследователя, для теоретика литературы и рай для интертекстуальности. Ориентированные на философию докладчики получили возможность сравнивать его с Кантом, а литературно ориентированные могли найти литературные примеры. <...> энциклопедически образованный в литературе Игорь Смирнов <.. .> просто не мог остановиться, указывая на параллели то с Константином Леонтьевым, то с Соловьевым, то с Андреем Белым... 1165
Означает ли это, что будущие академические издания Сорокина должны сопровождаться пространными комментариями, поясняющими все интертекстуальные отсылки? На конференции «Языки Владимира Сорокина», прошедшей в 2012 году в Орхусе, сам Сорокин не стал возражать против подобной перспективы, но выразил сомнение в необходимости составлять полный перечень интертекстуальных аллюзий в «Метели»:
Некоторые мои вещи можно назвать достаточно темными, другие же, наоборот, весьма прозрачны, как, например, «Метель». И в последних случаях мне бы хотелось, чтобы пояснения [к переводу на другой язык] были минимальными 1166.
Как этот авторский комментарий выражает критическое отношение к детективным расследованиям в области интертекстуальности, так и сама «Метель» не производит впечатления запутанного текста, который невозможно понять, скрупулезно не расшифровав все аллюзии. Несмотря на трагический по сути сюжет, у повествования легкая, безмятежная, игривая тональность, что побудило Андрееву и Биберган говорить о сочетании интертекстуальности и игры:
Подобно тому, как в свои юношеские годы Сорокин «играл» в концептуальные игры вместе с концептуалистами-художниками и «монтировал» свои художественные произведения из «частей» других («чужих») картин, <...> так последователь концептуальных практик в литературе Владимир Сорокин тоже накладывает, соединяет, использует «чужие» образы, мотивы, типы, характеры, создает почти центонное полотно своего прозаического текста, сложенного из микрочастиц текстов Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Островского, Гончарова, Тургенева, Достоевского, Чехова, Бунина, Блока, Платонова <...>, чтобы «проиллюстрировать» программную сентенцию постмодерного искусства — нет ничего нового в подлунном мире, создать новые произведения нельзя: <...>1167. Утверждая, что Сорокин просто «иллюстрирует» заранее заданную аксиому постмодерна, постулирующую невозможность новизны, авторы явно недооценивают его усилия. Сорокин — художник-экспериментатор, несколько раз пытавшийся «переоткрыть» себя. К тому же, хотя в целом представление, что Сорокин обычно работает с чужими текстами, стилями и дискурсами, верно, в нем не учитывается, что у самого Сорокина за тридцать лет накопилось немалое и продолжающее расти творческое наследие, что позволяет ему ссылаться на собственные более ранние тексты как отчасти «чужие». Если аллюзии к просто чужим текстам можно рассматривать как «ксенотекстуальные»1168, то отсылки внутри творчества одного автора логично назвать «автотекстуальными» 1169. В «Метели» коллизия ксенотекстуального и автотексту ал ьного векторов аналогична контрасту между линейным сюжетом и вторгающимися в него многочисленными разнородными деталями. Оба типа аллюзий — разновидности интертекстуальности, и оба предполагают некоторую игривость. Однако речь идет о двух весьма несхожих модусах игры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: