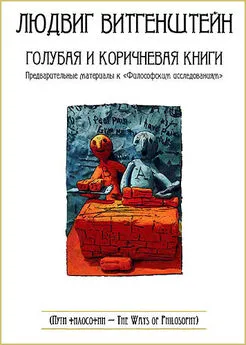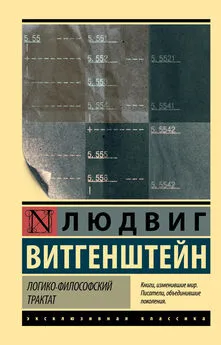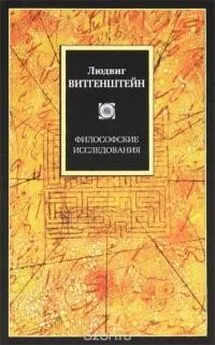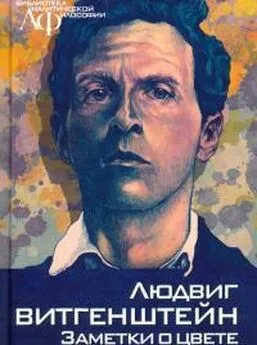Вадим Руднев - Божественный Людвиг. Витгенштейн: Формы жизни
- Название:Божественный Людвиг. Витгенштейн: Формы жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Фонд научных исследований «Прагматика культуры»
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-7333-0242-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Руднев - Божественный Людвиг. Витгенштейн: Формы жизни краткое содержание
Для философов, логиков, филологов, семиотиков, лингвистов, для всех, кому дорого культурное наследие уходящего XX столетия.
Божественный Людвиг. Витгенштейн: Формы жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И вот, в соответствии со своими взглядами на значение как употребление, Витгенштейн строит концепцию философии как деятельности по прояснению того, что он называет грамматикой высказывания, то есть того, что реально означают слова в различных языковых играх. В этом смысле особенность философии позднего Витгенштейна состоит в том, что эта философия рассматривает язык, мир слов и предложений так, как в свое время классическая философия рассматривала реальность и ее проблемы. Поэтому философия ФИ и их последователей называется лингвистической философией. Метафизические философские проблемы были объявлены псевдопроблемами давно — в эпоху «Логико-философского трактата». Но тогда философская проблематика редуцировалась к анализу пропозиции, то есть к логике. Теперь она редуцируется к анализу обыденного языка, обыденной речи, поэтому поздняя философия Витгенштейна и его последователей называется также философией обыденного языка.
Исследовать грамматику высказывания Витгенштейн начинает опять-таки со своего любимого Августина, с его знаменитого высказывания о времени: «Что есть время? Когда меня никто не спрашивает, я знаю, что оно такое, но будучи спрошенным и желая пояснить спрашивающему, не знаю».
Этого нельзя было бы сказать, — пишет Витгенштейн, комментируя высказывание Августина, — о каком-нибудь вопросе естествознания (например, об удельном весе водорода). Что человек знает, когда никто его об этом не спрашивает, и не знает, когда должен объяснить это кому-то, — и есть то, о чем нужно напоминать себе. […]
Нам представляется, будто мы должны проникнуть в глубь явлений, однако наше исследование направлено не на явления, а, можно сказать, на «возможности» явлений. То есть мы напоминаем себе о типе высказывания, повествующего о явлениях. […]
Поэтому наше исследование является грамматическим. И это исследование проливает свет на нашу проблему, устраняя недоразумения, связанные с употреблением слов в языке, недопонимание, порождаемое в числе прочего и определенными аналогиями между формами выражения в различных сферах нашего языка [Витгенштейн 1994: 122].
Здесь, во-первых, Витгенштейн разграничивает то, что Августин знает «для себя», и то, чего он не может сказать другому (см. ниже о проблеме индивидуального языка), и, во-вторых, здесь говорится, что следует заниматься не вопросом о том, что такое время (это метафизическая псевдопроблема), а тем, как слово «время» употребляется в обыденном языке. Когда человек спрашивает: «Сколько времени?», — восклицает: «О быстротечное время!» — или сетует: «Сколько можно время убивать!», — он играет в разные языковые игры, и, соответственно, слово время каждый раз приобретает новое значение.
Но для Витгенштейна также принципиально важно, что язык, на котором мы говорим, не является идеальным языком. Последнее связано с неуспехом логико-позитивистского проекта создания идеального языка, в котором Витгенштейн если и не принимал участие, то, во всяком случае, сочувствовал ему, судя по одной-двум фразам, брошенным на этот счет в «Логико-философском трактате». В ФИ Витгенштейн говорит об этой проблеме в одном из самых знаменитых фрагментов, где употреблена метафора идеально гладкого льда:
Чем более пристально мы приглядываемся к реальному языку, тем резче проявляется конфликт между ним и нашим требованием. (Ведь кристальная чистота логики оказывается для нас недостижимой, она остается всего лишь требованием.) Это противостояние делается невыносимым; требованию чистоты грозит превращение в нечто пустое. — Оно заводит нас на гладкий лед, где отсутствует трение, стало быть, условия в каком-то смысле становятся идеальными, но именно поэтому мы не в состоянии двигаться. Мы хотим идти: тогда нам нужно трение. Назад, на грубую почву! [Витгенштейн 1994:218]
Обыденный язык как раз обеспечивает это трение (вспомним высказывание с метафорой города). Поэтому задача лингвистической философии — отнюдь не исправлять обыденный язык, а просто хорошенько присматриваться к нему, анализировать то, как мы на самом деле говорим. И этот анализ поможет понять тот мир, в котором мы живем. Ибо язык и есть мир. В этом смысле лингвистическая философия достаточно близка так называемой гипотезе лингвистической относительности Эдуарда Сепира и Бенджамена Ли Уорфа, в соответствии с которой именно человеческий язык формирует представления о внешнем мире (а не наоборот, как думали в XIX веке).
Подробным примером анализа понятия обыденного языка в ФИ является анализ слова «читать», который занимает более пяти страниц текста. Мы ограничимся тем, что приведем некоторые фрагменты этого анализа:
Прежде всего нужно заметить, что я в данном случае не отношу к «чтению» понимание смысла читаемого. Чтение здесь выступает как деятельность озвучивания написанного или напечатанного; а также письма под диктовку, переписывания напечатанного, игры по нотам и т. п.
Конечно, нам хорошо знакомо употребление этого слова в обычных жизненных ситуациях. Роль же, которую оно играет в жизни, а тем самым ту языковую игру, в которой мы его используем, нелегко представить даже в самых общих чертах. Человек, скажем, немец, прошел в школе или дома обычный курс обучения. В процессе учебы он освоил навык чтения на своем родном языке. Впоследствие он читает книги, письма, газеты и т. д.
Что же происходит, когда он, например, читает газеты? —
Его глаза — как мы говорим — прослеживают напечатанные слова, он произносит их вслух или же выговаривает про себя. Причем определенные слова он прочитывает, схватывая их печатные формы в целом, в других — ему достаточно узреть первый слог, некоторые читаются по слогам, а отдельные слова, может быть, и по буквам. — Мы бы сказали, что он прочел предложение и в том случае, если бы по ходу чтения он не произносил его ни вслух, ни про себя, но после был бы в состоянии воспроизвести это предложение дословно или близко к тексту. — Он может вникать в то, что читает, или же действовать, скажем, просто как читающая машина, то есть читать громко и правильно, не вникая в читаемое. Может быть, при этом его внимание будет направлено на что-то совсем другое (так что, спроси его кто-нибудь сразу же, он не сможет сказать, о чем читал). […]
Попытаемся дать такое определение: некто читает, если он осуществляет воспроизведение оригинала. А «оригиналом» я называю текст, который читают или переписывают; диктант, который пишут, партитуру, по которой играют, и т. д. (…)
Но почему мы говорим, что он воспроизводит произносимое слово из напечатанного? Знаем ли мы нечто большее, чем то, что мы его научили, как произносить каждую букву, и что он после этого стал вслух читать слова? На этот вопрос мы, пожалуй, ответили бы так: ученик показывает, что он совершает переход от напечатанного к произносимому по правилам, которыми мы его вооружили. — Как это можно показать, проясняется, если видоизменить наш пример: ученик получает задание не прочесть текст, а переписать его, перевести печатный текст в рукописный. В этом случае мы смогли бы задать ему правило в виде некой таблицы. В одной колонке этой таблицы стояли бы печатные буквы, в другой — рукописные. А то, что письмо ученик здесь воссоздает на основе напечатанного, видно из его обращения с таблицей [Витгенштейн 1994: 141–142, 145–146],
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


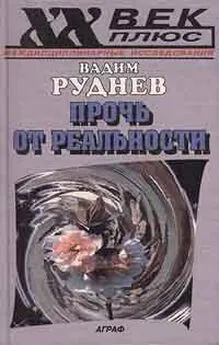

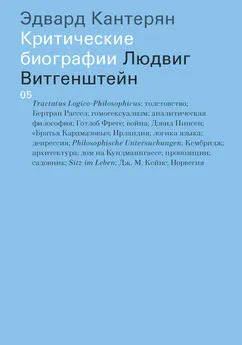
![Людвиг Витгенштейн - Философские исследования [litres]](/books/1057650/lyudvig-vitgenshtejn-filosofskie-issledovaniya-litre.webp)