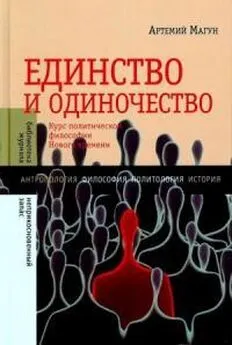Артемий Магун - «Опыт и понятие революции». Сборник статей
- Название:«Опыт и понятие революции». Сборник статей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:НЛО
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артемий Магун - «Опыт и понятие революции». Сборник статей краткое содержание
«Опыт и понятие революции». Сборник статей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Фрейд трактует фетишизм буквально, как непризнание кастрации женщины и задержку на предмете, который предшествует обнаружению этой кастрации. Его основным примером являются поэтому ноги , особенно рассматриваемые снизу вверх: так, “нога или обувь обязаны своим предпочтением в качестве фетиша <���…> тому обстоятельству, что любопытство мальчика, высматривающего женские гениталии, направлялось снизу вверх, от ног” [101].
Фетиш, с точки зрения Фрейда, есть “заменитель фаллоса женщины (матери)” [102]. Ж. Лакан добавляет, что при фетишизме ребенок отождествляет себя не с фаллической матерью, а с самим фаллосом — “с фаллосом, спрятанным под одеждой у матери” [103].
Фетишист питает отвращение к кастрации, и соответственно амбивалентно его отношение к женщине. Фетиш делает ее интересной, но интересен прежде всего сам фетиш, в его функции метафоры и амбивалентности.
В “установлении” фетишизма, по Фрейду, ключевую роль играет время: здесь “выдерживается такой процесс, который напоминает приостановку воспоминания при травматической амнезии. Как и в последнем случае, интерес здесь также как бы приостанавливается на полпути, в качестве фетиша удерживается нечто вроде последнего впечатления, предшествующего жуткому, травматическому” [104].
Платонов как будто специально следует структуре, описанной Фрейдом. Его фетишизм проявляется и в литературе, и в жизни [105]. Вот, например, такое описание в “Чевенгуре”:
Он еще раз посмотрел на ее восходящие ноги и не мог ничего ясно понять; есть какая-то дорога от этих свежих женских ног до необходимости быть преданным и доверчивым к своему обычному, революционному делу, но та дорога слишком дальняя, и Сербинов заранее зевнул от усталости ума [106].
И еще, тоже “Чевенгур”:
Потом открылась на высоком месте торжественная белая усадьба, обезлюдевшая до бесприютного вида. Колонны главного дома, в живой форме точных женских ног, важно держали перекладину, на которую опиралось одно небо. Дом стоял отступя несколько саженей и имел особую колоннаду в виде согбенных, неподвижно трудящихся гигантов. Копенкин не понял значения уединенных колонн и посчитал их остатками революционной расправы с недвижимым имуществом [107].
Материальность образов Платонова связана со своеобразным фетишистски-меланхолическим комплексом [108]. “Остранение”, нарочитое неузнавание вещей, колебание между позицией “недолета” (“Котлован”) и “перелета” (“Чевенгур”), позиция на грани конца, “накануне ликвидации”, энигматическая подвешенность образов, странники перекати-поле (отрезанные ломти или отрубленные фаллосы), как, например, пешеход с говорящим именем Луй; образы пустоты, полости и опустошенности, фигура мертвого отца (явно с удовольствием “убиваемого” автором) и матери-земли, которую нужно напитать и сделать плодородной, — все это образует своеобразную фетишистскую поэтику, в которой отчуждение становится эстетическим принципом, принципом изображения вещей в их прозаической материальности, но в то же время их эстетического подвешивания [109]и постоянного разрушения , необходимого для их воссоздания. Фетишизм позволяет Платонову передать специфическое застывание и зависание революционного события, хранить его незавершимость, “перманентность” [110]. Но он же помогает воспроизводить желание, использовать тревогу как плечо силы для прыжка, для утопического именования фантазма, в котором бы смыкались несводимые противоположности (единичности и тотальности, расчета и страсти).
Кастрация, в которую Платонов так и не может до конца поверить, проигрывается им без конца в текстах, во всей ее амбивалентности. Кастрация, как и революция, разрушает, снимает смысл предшествующих вещей, дезактивирует мир, отчего он и становится подвешенным и материалистическим. Она ведет к меланхолии и в случаях эксцесса угрожает полной депрессией и импотенцией (“Река Потудань”), балансирует на грани афанисиса. Но она же конституирует желание и волю к будущему, поставляет субъекта для строительства нового мира из обломков старого, образует полость/область для ее дальнейшего называния эзотерическими первоозначающими, окончательно кастрирующими “именами отца” (“Чевенгур”, “Джан” и т. д.) [111]. Все это происходит в литературе, под надзором “евнуха души”. Но является ли этот евнух надежным сторожем, не может ли сила литературного произведения выплеснуться за пределы его переплета? Не факт, и отсюда постоянная тревога самого Платонова и его критиков о том, что тоска и депрессия могут быть не просто отражены произведением, а стать напрямую заразительными. Литературные произведения для Платонова — машины, и так же как машины железные, они срабатывают не всегда. Задний ход может стать для них роковым, привести к преждевременному износу и т. д. И, однако, первоначальный толчок революции уже придал движение этим машинам, их дело — ритмизировать его, отталкиваясь от выталкивающей фантазии о живой смерти.
К истокам мрачных чувств. Негативная аффектация между меланхолией и терроризмом
Опубликовано в журнале Неприкосновенный запас, номер 3, 2013
Современная культура пронизана формами отрицательной аффектации: здесь и критическая настроенность СМИ, и присущая им же шоковая сенсационность, катастрофизм новостей, и культивация жесткого насилия в массовом искусстве, и широко распространенная и обсуждаемая в обществе психопатологическая симптоматика депрессии. В отношении этой аффективной негативности возникает целый ряд вопросов.
Во-первых, почему развлечение приобретает сегодня, причем, чем дальше, тем сильнее, такой мазохистский характер? Зачем человек платит за свой страх и ужас? Массовая культура середины XXвека, а в СССР вплоть до 1980-х годов, обходилась без столь объемного изображения насилия и нагнетания страха, хотя отмеченная Вальтером Беньямином «шоковость» [1] и возникла как конструктивный принцип сразу с рождением культурной индустрии.
Во-вторых, почему «правда жизни» предстает обязательно в столь разоблачительных формах, что приводит к акцентированию катастрофизма? Почему интеллигенция и вообще неформальные публичные лидеры входят в публичную сферу с зарядом, не столько ненависти, сколько меланхолии, так что в итоге проигрывают борьбу за власть над умами более позитивно мыслящим циникам-технократам? Я писал в своей книге «Отрицательная революция» [2] о том, что в 1990-е публичная меланхолия и игра на понижение со стороны только что занявшей публичную трибуну образованной публики смотрелись иррационально и предсказуемо привели к полному поражению в идеологической борьбе. При этом градус негативной эмоции в обществе не исчез, но ушел из буквальности новостных передач в закавыченные контексты целого ряда ток-шоу и сериалов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: