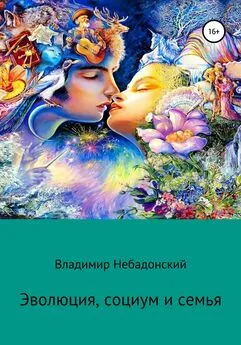Владимир Моисеев - Футурономия. Социум [СИ]
- Название:Футурономия. Социум [СИ]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Моисеев - Футурономия. Социум [СИ] краткое содержание
Тексты из цикла «Будущее» написаны по материалам «Футурономии. Социум». Считайте их переводом с футурологического языка на фантастический.
Футурономия. Социум [СИ] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сравнительное жизнеописание людей, словно бы специально предназначенных судьбой стать «лишними», можно найти в статье Кирилла Кобрина [61].
« В 23 года он был женат, имел работу, ипотеку и ребенка. Он рос в лондонском Ист-Энде, в доме массовой послевоенной застройки, а потом — в муниципальной квартире. В школе его аттестовали как трудягу и чистюлю, хотя в последнем классе он панически боялся экзаменов. Он неплохо сдал греческий и попал в Университет Лондона, где профессор характеризовал его так: «выдающийся в своей из ряда вон выходящей нормальности».
Он безусловно верил в ценность высшего образования — и не прогадал; после нескольких временных работ, смог устроиться в еженедельную газету. На рубеже 1960-70-х годовое жалование представителей низшего журналистского слоя составляло 917 фунтов стерлингов; этого было достаточно, чтобы он приписывал себя уже к среднему классу — и был прав: ипотека (95 процентов от дома стоимостью в 3.350 фунтов), жена, маленькая дочь. Жена, впрочем, ушла с работы, родив второго ребенка, и семейству пришлось туго, выручала теща, подкидывая деньжат.
Но ничего, они были счастливы; что касается прагматического выражения этого счастья, то на супругах не висел долг за образование, они жили в своем доме, у него была работа, у детей — подгузники и книжки-раскраски. Что еще надо? В каком-то (а именно в этом, прагматическом) смысле он был счастливее и своих родителей и своих детей. Первые смогли позволить себе ипотеку только в возрасте за пятьдесят, сын — в сорок, а дочь рискнула родить только в 31, по тем же, финансовым соображениям ».
Прошло 50 лет и реалии жизни изменились. Люди, которые не находят у себя стремления и способности к активной деятельности, склонные к спокойному, размеренному существованию, пусть не богатому, но стабильному, оказались в совершенно необычной ситуации.
«Я двадцатидвухлетняя студентка из Восточного Сассекса, которая полностью зависит от советов, денег и моральной поддержки своих родителей. Несмотря на то, что подростковые беременности становятся все более частыми, меня до сих пор волнует, когда кто-то из моих совершенно взрослых ровесниц заводит ребенка. Женщины, с которыми я когда-то ходила в школу, уже вышли замуж и имеют детей, а я до сих пор не умею даже стряпать для себя самой. Для меня — учитывая растущую конкуренцию из-за рабочих мест — самое главное это «нарастить» свое CV. У меня нет детей, я одинока и главная моя финансовая ответственность — следить за тем, чтобы не кончились деньги на любимом айфоне. Конечно, когда-нибудь я хотела бы иметь детей, мужа и собственный дом, но сейчас все эти вещи вторичны по сравнению с карьерой» .
Сравнительное жизнеописание людей, принадлежащих к одному кругу, получивших образование и не мечтающих стать «великими», оказывается очень наглядным. Если пятьдесят лет тому назад общество нуждалось в рутинном труде многочисленных образованных людей, ограниченно творческом, если можно так выразиться, то сейчас такой потребности просто нет. Кому, например, нужны представители «низшего слоя журналистов», если газеты отмирают просто на глазах? Кто будет читать колонку человека, которого больше всего «волнует, когда кто-то из ее ровесниц заводит ребенка»? И это в то время, когда и у «высшего слоя журналистов» проблемы — современные потребители информации предпочитают колонки известных в медийном пространстве людей или удачливых блогеров. Предпочтения населения известны: меньше букв, меньше информации, больше эмоций и, главное, чтобы было прикольно.
11.4. Кризис профессионализма
После того, как объявили о наступлении «века информации» люди стали инстинктивно стараться меньше знать. Предполагая, что рано или поздно способность анализировать большие объемы информации обязательно понадобится, а потому не следует раньше времени забивать голову ерундой. Основной поток информации ведь ерунда, бред или пропаганда. Но именно так считает большинство потребителей. Что остается специалистам, обслуживающим это большинство? Стараться быть полезными. Но массовые интересы непостоянны. Поддерживать внимание к чему бы то ни было долгое время очень трудно.
Вывод очевиден: потребность в профессиональных переработчиков информации падает. Широкое распространение получают социальные сети, подменяющие собой «серьезную» журналистику [62].
«Традиционная журналистика умирает. В качестве похоронки, к примеру, приходят сообщения о закрытии Школы журналистики в американском Университете Колорадо — одного из респектабельных учебных заведений этого профиля, которое много десятилетий готовило отъявленных писак.
О безвременной кончине школы мы, конечно, тоже узнаем из текстов. Человечество вообще никогда так много не писало и не читало, как в последние несколько лет (эсэмэс плюс Твиттер, да еще статусы в Фейсбуке). Дело в том, что теперь медиа уже не являются привилегией профессионалов — они доступны любому. В сущности, сбылась мечта третьего президента США Томаса Джефферсона — у каждого в руках сегодня есть печатный станок.
Профессионалы, понятное дело, в таких условиях существовать не привыкли и в конкурентной борьбе стремительно проигрывают. Все меньше людей смотрят телевизор, все меньше продается в мире газет, все больше кликов получают бесплатные сайты, в первую очередь социальные сети.
В мире новых медиа победила скорость. Подсчитано, например, что твит живет четыре минуты, а потом о нем забывают. Такая спешка чаще всего оказывается несовместимой с естественным человеческим желанием подумать. В этот момент выясняется, что у умной и, по определению, более медленной профессиональной журналистики остается все же место под солнцем. Потому что одно дело на бегу читать анекдоты о природе экономического кризиса в Твиттере. И другое дело — потратить вечер на изучение подборки публикации на эту тему в какой-нибудь The Wall Street Journal, которая отвечает за свои строки профессиональной репутацией редакции и вековой историей издания ».
Напоминание про «профессиональную репутацию» — это, конечно, веский аргумент. Но, поскольку дальше в статье речь идет о деньгах, которые следовало бы получить с читателя за «медленный» контент, высокие слова производят впечатление рекламного слогана.
«Чем оплачивается бесценное время топового экономического аналитика, который в отчаянии валяется на диване в попытках написать идеальные двадцать тысяч знаков для журнального разворота? Доходы падают — люди не покупают газеты, а читают их сайты. Выход вроде бы найден. Многие западные сайты переходят на платную модель распространения своего контента по подписке. Ищешь вдумчивой аналитики — раскошеливайся. Но на практике работает это пока не очень хорошо. Интернет совсем не похож на телевидение, поскольку (и это, конечно, трюизм) в нем присутствует реальная, а не симулятивная интерактивность. Юзер может писать комментарии. Эти комментарии теоретически могут стать сенсацией в каком-нибудь сообществе и выйти за его пределы. Однако загвоздка состоит в том, что это может случиться лишь тогда, когда материал, который комментирует наш юзер, открыт для всех. Проще говоря, идея платного контента в сети пока наталкивается на препятствие в виде социальных функций Интернета. Нам хочется не только читать материалы сайтов, даже самых уважаемых, но и цитировать их в своих блогах, делиться ссылками с друзьями. Словом, создавать свою личную информационную реальность» .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Владимир Моисеев - Футурономия. Социум [СИ]](/books/1066992/vladimir-moiseev-futuronomiya-socium-si.webp)

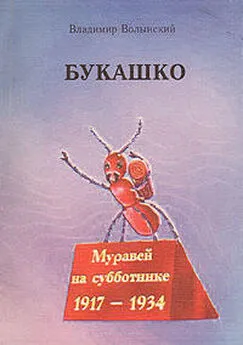
![Владимир Моисеев - Здравствуй, Марс! [СИ]](/books/1066991/vladimir-moiseev-zdravstvuj-mars-si.webp)
![Владимир Моисеев - Астрономы идут [СИ]](/books/1066993/vladimir-moiseev-astronomy-idut-si.webp)
![Владимир Моисеев - Мизантроп [СИ]](/books/1066997/vladimir-moiseev-mizantrop-si.webp)