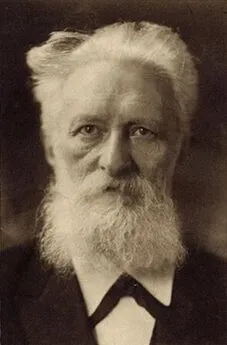Фрэнсис Паркер Йоки - Imperium. Философия истории и политики
- Название:Imperium. Философия истории и политики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Русский Мiръ»
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-904088-25-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фрэнсис Паркер Йоки - Imperium. Философия истории и политики краткое содержание
Независимо от того факта, что книга постулирует неизбежность дальнейшей политической конфронтации существующих культурных сообществ, а также сообществ, пребывающих, по мнению автора, вне культуры, ее политологические и мировоззренческие прозрения чрезвычайно актуальны с исторической перспективы текущего, XXI столетия.
С научной точки зрения эту книгу критиковать бессмысленно. И не потому, что она ненаучна, а в силу того, что поднимаемые в ней вопросы, например патология культуры как живого сверхорганизма, по меньшей мере, недостаточно исследованы или замалчиваются из либеральных соображений.
Книга адресована самому широкому кругу читателей, небезразличных к политике, а также к судьбе человечества в целом.
Imperium. Философия истории и политики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В период, когда западной цивилизацией правил либерализм и роль государства теоретически сводилась к функции «ночного сторожа», само слово «политика» поменяло свой фундаментальный смысл. Если прежде оно означало властную деятельность государства, то теперь так стали называть усилия частных лиц и их организаций, предпринимаемые для сохранения правительственных должностей как источника своего жизнеобеспечения. Иными словами, политику отождествили с партийной политикой (в 2050 г. читатели вряд ли разберутся в этих тонкостях, потому что партийная эпоха будет предана такому же забвению, как теперь Опиумные войны). Такое превращение (introspection) было явным симптомом дисторсии, болезни и кризиса, которым подверглись все государственные организмы. Предполагалось, что теперь на первый план вышла внутренняя политика. В таком случае по внутриполитическим вопросам могли образовываться группировки друзей и врагов. Если это случалось, то все заканчивалось гражданской войной, но если до этого не доходило, то по факту внутренняя политика продолжала оставаться второстепенной, ограниченной и частной, а не публичной. Сам тезис о первостепенности внутренней политики был спорным: имелось в виду, что она должна быть таковой. Либералы и классовые бойцы всегда выдавали свои желания и надежды за факты, почти факты или потенциальные факты. Единственным результатом сосредоточения энергии на внутренних проблемах было ослабление данного государства относительно других. Закон любого организма допускает лишь две альтернативы: или организм не занимается самообманом, или он докатывается до болезни или смерти. Природа, сущность государства подразумевает мир внутри и борьбу снаружи. Внешняя борьба успеха не приносит, если внутренний мир нарушен или уничтожен.
Органический и неорганический способы мышления не пересекаются: обычная школьная логика, которую мы находим в учебниках философии, говорит нам, что для существования государства, политики и войн нет оснований. Не существует логической причины, по которой человечество нельзя было бы организовать как светское общество, чисто экономическое предприятие или огромный книжный клуб. Но высшие организмы государств и наивысшие организмы высоких культур не спрашивают у логиков разрешения, чтобы быть, поскольку само существование подобного типа рационалиста, человека, свободного от реальности, есть всего лишь симптом кризиса высокой культуры, и когда уходит кризис, за ним следуют и рационалисты. О том, что рационалисты понятия не имеют о невидимых органических силах истории, свидетельствует их неспособность предвидеть события. Накануне 1914 г. они в один голос утверждали, что общеевропейская война невозможна. Два разных типа рационалистов приводили две разные причины. Классовые бойцы из Интернационала утверждали, что опирающийся на классовую борьбу международный социализм исключает возможность настроить «рабочих» одной страны против «рабочих» другой страны. Другой тип — тоже зацикленный на экономике, поскольку рационализм и материализм обручены навеки, — говорил, что всеобщая война невозможна потому, что мобилизация приведет к таким катаклизмам в экономической жизни стран, что через несколько недель наступит крах.
Симбиоз войны и политики
Теперь можно разобраться в отношениях войны и политики. Не вдаваясь в метафизику войны, нам предстоит выработать практические воззрения на возможность и необходимость войны, которые можно положить в основу деятельности.
Вначале дефиниция: война есть вооруженная борьба между организованными политическими единицами. Вопрос не в методах войны, поскольку оружие есть всего лишь способ убийства. Дело также не в военной организации — она ничего не определяет во внутренней природе войны. Война есть наивысшая степень размежевания на друзей и врагов. Слово «враг» следует понимать практически: враг есть тот, против кого планируется или ведется война. Если вопрос о войне не стоит, значит это не враг. Он может быть просто соперником в состязании за приз, может быть просто язычником, идеологическим оппонентом, конкурентом, существом, ненавистным по причине антипатии. В момент, когда он становится врагом, возникает возможность или актуальность вооруженного столкновения. Война — это не агон, поэтому до середины XVIII века вооруженные конфликты между государствами западной культуры не были войнами в том смысле, который вкладывает в это понятие XX век. Они были ограничены по своим целям и размаху, и в отношении оппонента не были экзистенциальными. Значит, они не были политическими в трактовке XX века, то есть не были борьбой с врагами в нашем понимании. К сожалению, в европейских языках отсутствует присущая греческому точность, где делается различие между агоном как борьбой между эллинами- «антагонистами» и войной с не-эллинами, когда противник, например персы, является врагом. Поэтому крестовые походы были войнами в полном и абсолютном смысле слова: их глубочайшей духовной целью было утверждение истинной веры и культурного превосходства над язычниками. Противник (хотя в силу внутреннего императива рыцарской чести на его солдат, естественно, распространялось личное великодушие) был врагом, которого по возможности следовало уничтожить как общность.
В ходе крестовых походов принцип чести удерживал от низости по отношению к личности, но не исключал тотального уничтожения организованной вражеской единицы. Во внутреннем европейском противоборстве честь запрещала навязывать слишком жесткий договор поверженному противнику, и никому не приходило в голову отрицать его право на существование в качестве организованной единицы.
На протяжении истории нашей культуры, начиная с папы Григория VII и до Наполеона, борьба против представителей культуры имела ограничения, но с язычниками, не принадлежавшими к нашей культуре, велась настоящая, беспощадная война.
До, после и вне культуры войны ведутся без ограничений. Будучи чистейшим проявлением варвара в человеке, они лишены высокого символизма. При этом они духовны, поскольку все человеческое духовно. Дух есть первостепенное в человеке, а все материальное — лишь средство для духовного развития. Человек видит символическое значение во всем, что его окружает, и переживание этих символов, сопровождающееся соответствующей деятельностью и организацией, — это как раз то, что делает его человеком, хотя он несет в себе также животные инстинкты. Разумеется, посредством символической трансформации его душа полностью меняет проявление этих инстинктов. Теперь они служат душе и ее символизму. Человек не убивает, в отличие от тигра, ради того, чтобы съесть: он убивает по духовной необходимости. Даже войны, происходящие за пределами высокой культуры, не являются чисто животными, совершенно лишенными символического содержания. Для человека такое невозможно: только нечто духовное может вывести массы на поле битвы. Но символизм высокой культуры — это возвышенный символизм, он сплавляет прошлое, настоящее, будущее и тотальность вещей в грандиозное действо, и позже осознается, что оно также было символом. В сравнении с этими великими смыслами, с этой великой сверхличной судьбой внекультурные человеческие проявления кажутся чисто зоологическими. Поэтому по причине низкого символического содержания и меньшего духовного потенциала этих войн они никогда не достигают интенсивности, масштаба и длительности тех, которые связаны с высокой культурой. Поражение признается значительно легче, поскольку затрагиваются только души непосредственных участников. Однако в войнах, которые ведет культура, действует ее душа, наделяя своей невидимой, но неодолимой силой тех, кто ей служит, и борьба может продолжаться годами, несмотря на неравные силы. Несколько поражений, и с Чингисханом было бы покончено. Все иначе, когда речь идет о Фридрихе Великом или Джордже Вашингтоне, которые чувствовали себя носителями идеи и будущего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: