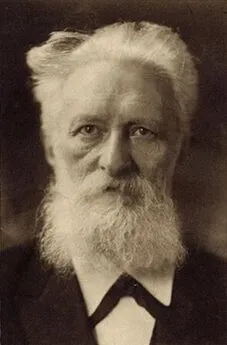Фрэнсис Паркер Йоки - Imperium. Философия истории и политики
- Название:Imperium. Философия истории и политики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Русский Мiръ»
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-904088-25-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фрэнсис Паркер Йоки - Imperium. Философия истории и политики краткое содержание
Независимо от того факта, что книга постулирует неизбежность дальнейшей политической конфронтации существующих культурных сообществ, а также сообществ, пребывающих, по мнению автора, вне культуры, ее политологические и мировоззренческие прозрения чрезвычайно актуальны с исторической перспективы текущего, XXI столетия.
С научной точки зрения эту книгу критиковать бессмысленно. И не потому, что она ненаучна, а в силу того, что поднимаемые в ней вопросы, например патология культуры как живого сверхорганизма, по меньшей мере, недостаточно исследованы или замалчиваются из либеральных соображений.
Книга адресована самому широкому кругу читателей, небезразличных к политике, а также к судьбе человечества в целом.
Imperium. Философия истории и политики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Колоссальное развитие военной техники привело к тому, что немногие страны способны вынести бремя войны. Это заставило рационалистов и либералов, которые всегда чего-то вожделеют, объявить, что мир приходит в согласие. Больше не будет ни войн, ни политики («силовой политики» — их излюбленный термин из той же серии, что и «эстетика прекрасного», «полезная экономика», «добрая мораль», «благочестивая религия», «легальный закон»): мир стал нейтральным, причины для войн исчезают, политические державы больше не могут позволить себе войну и т. п. Но ведь на самом деле не война или политика исчезают, а просто сокращается число соперников.
Успокоившийся мир — значит мир без политики. В таком мире не должно быть причин для возникновения различий между людьми, которые бы могли настроить их друг против друга. В чисто экономическом мире люди могли бы соперничать, но только в качестве конкурентов. Если бы сохранилась мораль, поборники различных теорий могли бы оппонировать друг другу, но только в порядке дискуссии. Религиозные люди могли бы соперничать в пропаганде своих вер. Это был бы мир без убийц, или, еще лучше, — такой безмятежный, бесцветный и скучный мир, что никто ни к чему не относился бы настолько серьезно, чтобы за это убивать или рисковать жизнью.
Напрашивается единственный вывод: рационалисты, либералы и пацифисты, полагающие, что войны могут прекратиться, просто не понимают смысла слова «война», ее отношения к политике и природы самой политики, настраивающей людей друг против друга как врагов. Мягко выражаясь, эти люди не ведают, о чем говорят. Они желают упразднить войну с помощью политики и даже с помощью войны. Если бы война исчезла, а политика осталась, они бы затем упраздняли политику с помощью войны или политики. Они путают словоблудие с политическим мышлением, логику с требованиями души, случайность с историей. Для них не существует сверхличных сил, потому что их нельзя увидеть, взвесить или измерить.
Поскольку симбиоз войны и политики руководствуется собственными умозрительными категориями, независимыми от других способов мышления, следует заключить, что не бывает войны по чисто неполитическим мотивам. Если религиозные разногласия, экономические различия, идеологические расхождения настолько обостряют чувства, что настраивают людей друг против друга как врагов , то все эти причины в результате становятся политическими . При этом формируются политические единицы, которые пользуются не религиозным, экономическим или иными способами маневрирования, мышления и оценки, а именно политическим способом. Невозможно, чтобы войной руководила чистая экономика, потому что война не дает экономической отдачи. Войну не могла бы вести ни чистая религия, ни чистая идеология, потому что война не способна распространять религию, не умеет ни во что обращать, но ведет только к увеличению или уменьшению власти.
Разумеется, поводом для войны могут служить и не строго политические мотивы, но их бесследно поглощает война. Бывало, что войны мотивировались западным христианством (например, крестовые походы), но в ходе этих войн высвобождались такие силы, которые христианством не одобряются. Войны мотивировались и экономикой, но непосредственным итогом войны никогда не была прибыль. Поэтому накануне 1914 г. либералы и рационалисты всего лишь обманывали себя тем, что войны прекратились потому, что не приносили выгоды. Они жили в своем частном мире абстракций, где экономика была единственным мотивом человеческого поведения, и где не существовало невидимых сверхличных сил. Но и 1914 г. не заставил их изменить своей теории: если факты противоречат теории, надо пересмотреть факты. Первая мировая, с их точки зрения, доказала, что экономика требует прекращения войн и таким образом лишь утвердила этих людей в их воззрениях. Им невдомек, что сверхличные силы никогда не принимают во внимание человеческие экономические потребности. Почему их не убедили высказывания одного из самых непосредственных участников лихорадочной переговорной суматохи в июле 1914-го, что все участвовавшие в ней государственные мужи медленно скатывались к войне? Строго фактуальный подход свидетельствует, что сверхличные организмы не обладают экономикой в нашем понимании, являясь чисто духовными сущностями. Когда население, принадлежащее к данной культуре, себя кормит (а экономика сводится именно к этому), оно кормит высший организм, клетками которого является. Его клетки относятся к сверхличной душе, как клетки человеческого тела к душе человека.
Война по чисто религиозным, экономическим или иным мотивам была бы бессмысленной, равно как и невозможной. Из религиозных противоречий рождаются умозрительные категории верующего и неверующего, из экономики — партнера и конкурента, из идеологии — согласного и несогласного. Но только политические противоречия создают группировки друзей и врагов, и только вражда может привести к войне. Вражда может начаться, например, с личной неприязни любовницы правителя, заставившей западные государства разделиться на враждебные группировки, но если дело доходит до вражды, это уже политика. Пусть к вражде приводят религиозные разногласия, но когда дело доходит до войны, человек может воевать против верующих или принимать помощь от неверующих. В этой связи можно упомянуть Тридцатилетнюю войну. Хотя причиной вражды послужила экономика, но как только вражда разгорелась, сражение велось уже без оглядки на экономические последствия: речь шла только о политике.
Все эти умозрительные категории предъявляют монополию на мышление, дескать, политическая мысль должна им подчиняться. Но политическое мировоззрение XX века просто констатирует, что на самом деле это не так. С позиций эстетики война и политика могут быть уродливыми, с позиций экономики — расточительными, с моральных позиций — порочными, с религиозных — греховными. Однако с позиций политики эти точки зрения нейтральны . Политика в первую очередь пытается взвесить факты, а во вторую — их изменить, но никогда не оценивает их в неполитической системе ценностей. Правда, некоторые политики поступают наоборот. Англичане, особенно после Кромвеля, пытались представить каждую свою войну христианской, и даже война, утвердившая серп и молот в сердце Европы, изображалась войной за христианство. Но это не имеет отношения к тому, что я здесь говорю, потому что подобные вещи касаются лексики, но не фактов или действий. Неполитическая терминология и пропаганда не в силах деполитизировать политику, как невозможно лишить войну воинственности с помощью пацифистских увещеваний.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: