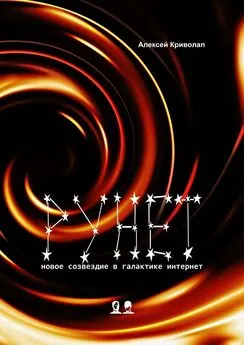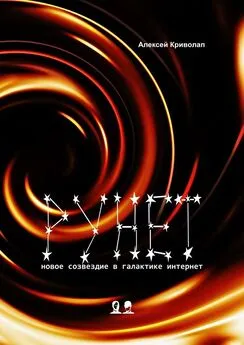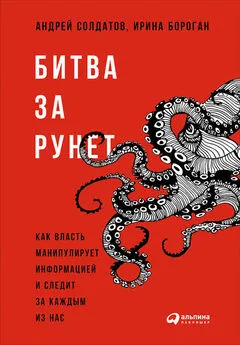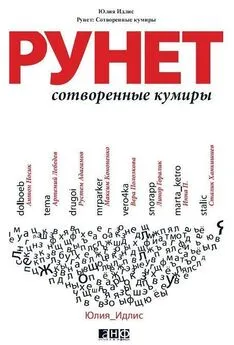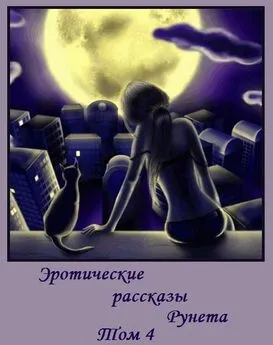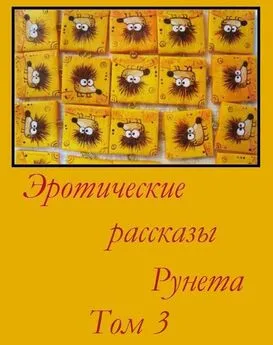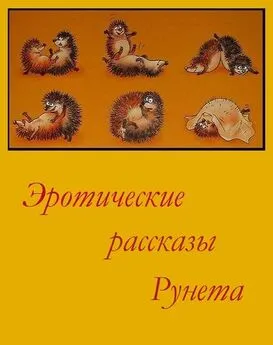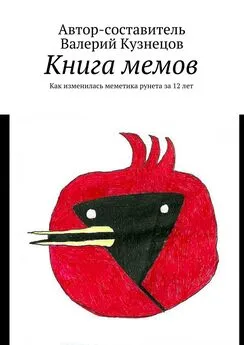Алексей Криволап - Рунет
- Название:Рунет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Криволап - Рунет краткое содержание
Рунет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Можно сказать, что «советскость» (как характеристика) есть главный результат постсоветских преобразований в сфере массмедиа. Это иное измерение проблемы дистанции, отражающее то, насколько продвинулись преобразования в сфере медиа. Минимальная дистанция в советской медийной практике превратилось в полное отсутствие дистанции в постсоветских новых медиа. Симуляция реальности уже не есть нечто гипотетическое, а самый что ни на есть факт реальности. Поскольку реальность конструируется в процессе репрезентации.
3.2.1. Культурная идентичность и национальный проект
Говорить о тотальной глобализация массмедиа, уже давно стало общим местом. Сегодня даже локальные массмедиа вынуждены считаться с дискурсом глобализации. Наиболее яркие свидетельства этого — события 11 сентября 2001 г. и последние военные действия в Ираке. Собственно, в этой связи уместно говорить о культурном и информационном империализме. Для противостояния подобного рода культурному империализму и американизации вводятся национальные квоты, которые ограничивают объемы программ иностранного производства.
Тут можно обнаружить общие механизмы защиты собственной культурной целостности, используемые национальными государствами применительно к массмедиа: «Геополитический контекст, который существенно ограничил возможности национальной системы, регулирующей телевидение, но в котором репрезентация национальных отличий является фундаментально важной по культурным и политическим причинам» 194 194 Graeme Turner, «Television and Cultural Studies», International Journal of Cultural Studies 4, вып. 4 (2001 г.): 376.
.
Культурный империализм — это феномен культурной колонизации. Опасность «культурного империализма» в контексте глобализации часто редуцируется к «американизации» или представляется как создание некой новой единой глобальной мировой культуры, сделанной по западным (американским) стандартам 195 195 Tomlinson, Globalization and culture, 79—97.
, оставляя без внимания многомерность глобализации как культурного явления проекта модерна 196 196 Giddens A. The Globalizing of Modernity // The global transformations reader: an introduction to the globalization debate, 2nd ed (Cambridge, UK: Malden, MA USA: Polity Press; Distributed in the USA by Blackwell Pub, 2003), 92—98.
.
В ситуации культурного самоопределения переходных обществ Ричард Хоггарт говорит о нескольких возможных интерпретациях роли культуры и задач, которые должны решать национальные министерства культуры: 197 197 Hoggart R. Culture and its Ministers // Hoggart, An English temper, 187—89.
1. Культура как приобретение индивидуального достоинства. Когда социальная роль художника-творца и просветителя необычайна высока. Это классическое понимание культуры как элитарного продукта, продукта не для всех и требующего определенного образовательного ценза.
2. Культура как идеологическая составляющая, поддерживающая существующую идеологию. Классический пример — понимание культуры в СССР как и цели и задачи, которые стояли перед советским министерством культуры.
3. Культура как форма национальной идентичности — наиболее сильное понимание культуры. Подобное понимание характерно для стран Азии и Африки, где под воссозданием единой культурной идентичности понимается необходимость восстановления нарушенного за время колониализма. Собственно, в подобной ситуации оказались все республики, получившие независимость после распада СССР.
Сфера культуры оказывается местом для «поисков утраченного единства» 198 198 Дебор, Общество спектакля, 99.
, а процесс потребления массмедиа является составной частью процесса идентификации себя как гражданина. Проблема идентификации должна рассматриваться как одна из составляющих процесса репрезентации. С некоторыми оговорками можно даже говорить, что идентификация является обратной стороной репрезентации.
Но можно пересмотреть подход к понимаю культуры: от культуры «праздных разговоров» к культуре действия и созидания 199 199 David Gauntlett, Making is connecting: the social meaning of creativity from DIY and knitting to YouTube and Web 2.0 (Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press, 2011), 8—13.
. И для того, чтобы осуществить задуманное, нам необходимы особые «инструменты для изменений» 200 200 Там же, 162—84.
для коллективного действия, о которых еще до появления интернета писал Иван Иллич 201 201 Іван Ілліч, Энергія і справядлівасць. Прылады для таварыскасці, Зялёная літара (Вільня: Палітычная сфера, 2013), 54—198.
.
Любой знак не обладает одним фиксированным значением, уместно вспомнить о так называемых «плавающих означающих» «сама идентичность которых «открыта» и предопределяется их сочленением в цепочки с другими элементами. Как отмечает С. Жижек, их «буквальное» значение зависит от их метафорического «прибавочного значения» 202 202 Славой Жижек, Возвышенный объект идеологии (Москва: Художественный журнал, 1999), 93.
. Но при этом все силы власти в сфере символической борьбы направлены именно на то, чтобы зафиксировать эти значения. Когда «ставкой в идеологической борьбе являются «узловые точки», point de capition, стремление ввести, включить в задаваемые ими серии эквиваленций эти свободно плавающие элементы» 203 203 Там же, 94.
. Во многом усилия тоталитарной системы были направлены, но не ограничивались укоренением этого одного единственно верного значения. Но «функция идеологии состоит не в том, чтобы предложить нам способ ускользнуть от действительности, а в том, чтобы представить саму социальную действительность как укрытие от некой травматической, реальной сущности» 204 204 Там же, 52.
.
После распада СССР мы вынуждены констатировать разрушение этих единых образов и знаков, которые теперь не несут в себе столь однозначной идеологической нагрузки и которые не воспринимаются столь однозначно. Ведь после распада СССР возникла актуальная потребность в повторной социализации, но «реальным основанием для ресоциализации является настоящее, а для вторичной социализации — прошлое» 205 205 Бергер и Лукман, Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания, 263.
.
Если воспользоваться моделью семиосферы 206 206 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров // Лотман, Семиосфера, 150—391.
— пространства циркуляции смысла, существования знаковой реальности, для объяснения возможности существования «между», то будет затронута и проблема центра и периферии. Как отмечает Игорь Бобков, «центр и возможен только тогда, когда есть периферия. Средняя Европа и есть одна из многочисленных европейских периферий» 207 207 Ігар Бабкоў, «Сярэдняя Эўропа — новая мадэрнасць», Фрагмэнты 3 (1997 г.), http://knihi.com/storage/frahmenty/3babkow.htm.
.
Возможности влияния массмедиа на процесс культурной идентификации нельзя редуцировать только к проблеме отождествления себя с идеальными образами, которые в избытке предлагаются массмедиа. Это проблема с присвоением Другого, и осуществляется она в рамках более сложного механизма репрезентации 208 208 Альмира Усманова, «Репрезентация как присвоение: к проблеме существования Другого в дискурсе», Топос 4 (2001 г.): 50—66.
. Следует попытаться понять, на основании чего осуществляется выбор тех или иных стратегий, тактик идентификации.
Интервал:
Закладка: