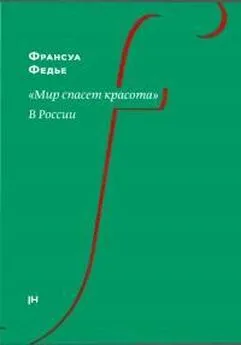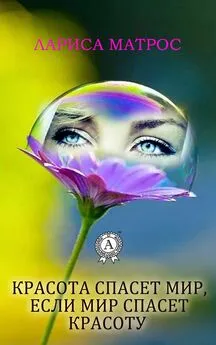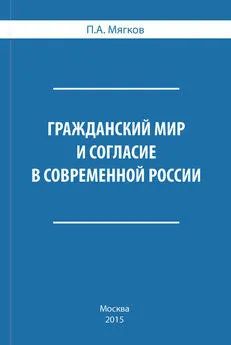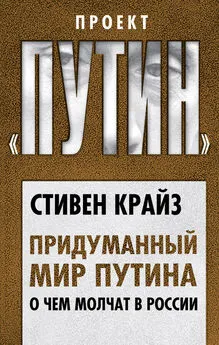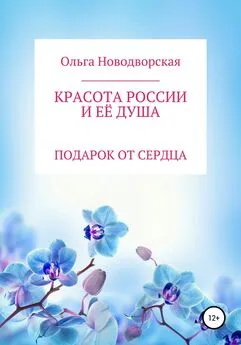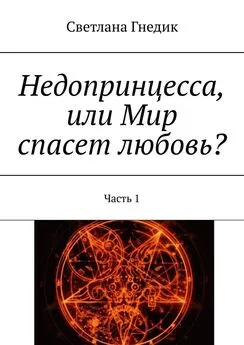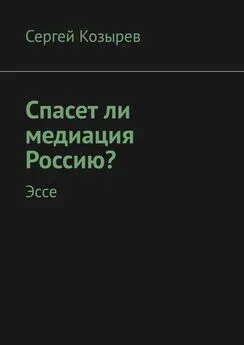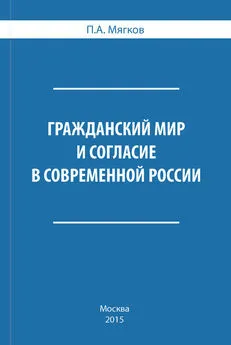Франсуа Федье - «Мир спасет красота». В России
- Название:«Мир спасет красота». В России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Франсуа Федье - «Мир спасет красота». В России краткое содержание
«Мир спасет красота». В России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но чем дольше я об этом думаю, тем больше все, что я испытал в России, кажется мне символичным.
В том, что касается живописи и искусства в целом, я, как мне кажется, пришел к пониманию ряда вещей, которые, по сути, вращаются вокруг, условно говоря, «не- символичности» современного искусства. Имею в виду (беря термин «символичность» в значении, обычном для нашего времени) мысль, что искусство, пришедшее к своему концу, больше не ссылается ни на что, кроме себя самого. Проще говоря: предметом современного искусства является не что иное, как само искусство.
То, что в этом вопросе дала мне поездка в Россию, стало кульминацией давно начатого размышления: прежде всего о том, что термин «символичность», когда речь идет о понимании искусства, используется неудовлетворительно. Соответственно результат размышления тотчас же связывается с символом вообще, вне зависимости от его отношения к искусству.
Вся трудность, несомненно, проистекает из того, что традиционное понимание «символа» уже очень давно зашло в тупик. В самом деле, мы определяем символ, подчеркивая момент соскальзывания к другому предмету, на который символ «должен указывать» и который, как предполагается, его, символ, определяет. Нет нужды приводить примеры, поскольку это представление является общепринятым — даже там, где, по видимости, думают, что от него свободны.
Чтобы освободиться от этого ошибочного понимания символа, достаточно представить себя там, где уже невозможно игнорировать его истинную природу. Выше я говорил, что Варлам Шаламов явился для меня поистине символом русской души. Выражение «символ русской души», в том смысле, в котором должно восприниматься сказанное сейчас, подразумевает, что не может быть русской души при отсутствии ее символа. Русская душа и ее символ так тесно связаны между собой, что мыслить одно без другого будет крайней абстракцией, которую может допустить только формальный анализ (и которая, следовательно, не может иметь никаких реальных последствий). Греческое слово «символ» действительно подразумевает изначальное, неразрывное, неустранимое единство; единство настолько единое, что лучше было бы далее сказать (хотя формулировка вышла бы абсолютно ложной): русская душа есть свой собственный символ, так же как символ русской души — сама русская душа. Достоинство такой формулировки (повторяю, ложной с точки зрения строгой логики) в том, что она дает весьма надежный критерий для распознавания того, что может быть истинным символом.
В этом новом смысле необходимо четко себе уяснить, что всякое подлинное искусство символично — но, вопреки все еще распространенному пониманию «символичного», именно потому, что подлинное произведение искусства отнюдь не взывает к чему-либо «внешнему» для произведения, что придавало бы ему «истинный смысл». Зов символа получает свой ответ непосредственно, в рамках самого произведения, именно как произведения, которое является произведением только в той мере, в какой оно обращается к нам.
Чтобы лучше понять эту природу символа, вернемся к Варламу Шаламову. Символу, как я сказал, русской души. Я точно также мог сказать: символу русского народа, при условии понимания слова «народ» в предложенном мною выше смысле. Народ — часть человечества, которая, руководствуясь инстинктом, отказывается иметь малейшую долю во власти и по отношению к ней считает долгом соблюдать дистанцию. В течение всего нашего пребывания в России (я говорил об этом своей жене) меня мучили клише, мешающие восприятию того, что мы, используя столь красноречивое слово Гёльдерлина 88, можем назвать русской «народностью» (popularitas: характерные черты, свойственные только этому народу). Все знают эти клише: «фатализм», «безразличие» 89, «лень»… прерываю список, напомнив лишь, что даже русские писатели пытаются определить народный характер общими местами в подобном роде.
Однако он, этот характер, явно связан с отмеченным мною «метафизическим» отказом. Вернувшись в Париж, я все не мог найти подходящее слово, чтобы должным образом выразить это народное поведение. Мы не видим без слов, но не всякое слово годится для того, что мы хотим раскрыть; в основном наши слова служат ширмами, а не окнами. Мои размышления вращались вокруг идеи разрыва, расстояния — терминов слишком «объективных», когда я примеряю их к тому, что спонтанно, а то и предшествуя мысли, содержится в этом народном поведении. Думать о Шала- мове сейчас, когда речь идет о понимании механизма такого поведения, — значит идти к результату. В «Колымских рассказах» есть текст, который, как мне кажется, выводит на свет то, что я ищу, — рассказ, озаглавленный
«Первый зуб». Он достигает кульминации в месте, где описывается реакция рассказчика, осужденного, которого гонят по этапу, на беззаконное избиение другого осужденного начальником конвоя:
И вдруг я почувствовал, как сердцу стало обжигающе горячо. Я вдруг понял, что всё, вся моя жизнь решится сейчас. И если я не сделаю чего, а чего именно, я не знаю и сам, то, значит, я зря приехал с этим этапом, зря прожил свои двадцать лет.
Обжигающий стыд за собственную трусость отхлынул с моих щек — я почувствовал, как щеки стали холодными, а тело — легким.
Я вышел из строя и срывающимся голосом сказал:
— Не смейте бить человека.
То, что описывает Шаламов, — реакция в самом чистом виде: под воздействием некой переживаемой ситуации, без предварительного намерения, внезапно становятся необходимы поступок и слово. Противостояние в этих условиях исключает саму возможность бравады. Это некий выплеск, прорывающийся изнутри, так что человек чувствует себя скорее инструментом, нежели действующим лицом. Это, как мне кажется, самая существенно важная характеристика поведения народа: реакция (а не действие), которая сводится к простому поступку сопротивления (если расслышать то, что слово «сопротивляться», resistere, говорит на латыни 90) — прекратить любое другое поведение и не делать ничего, кроме как — противостоять.
Антагонистические отношения между теми, кто осуществляет власть, и народом Мартин Хайдеггер потрудился описать вот каким образом. В его «Ректорской речи» 91читаем (я заново перевожу самое важное место из § 40): «Осуществление власти в любом случае предполагает, что народу предоставляется право свободно применять свою силу. А быть народом — во-первых и прежде всего остального, означает: сопротивляться» 92.
Я сознаю, что, сближая Хайдеггера и Ша- ламова, делаю что-то безрассудное. И все же рискую, прося от читателя самой внимательной благосклонности.
— Я не из тех, кто считает, что можно думать без риска. Но о каком риске говорите сейчас вы?
— О наихудшем риске — для нас: риске путаницы. Путаница между порядком мысли и порядком поэзии — эта путаница ведет к тому, что мы не рассматриваем, в каком смысле следует принимать термин «сопротивляться».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: