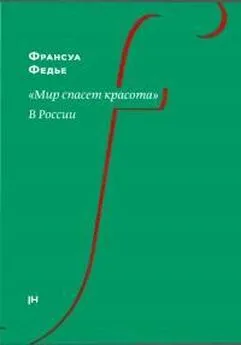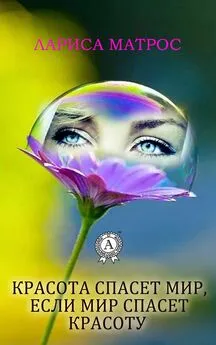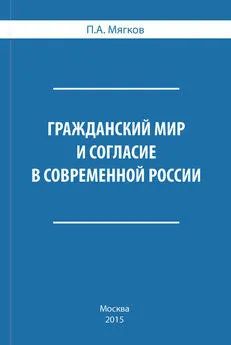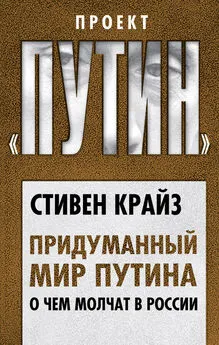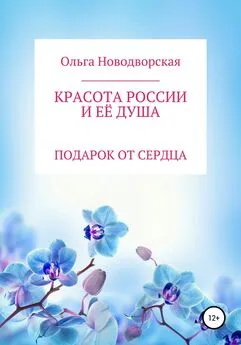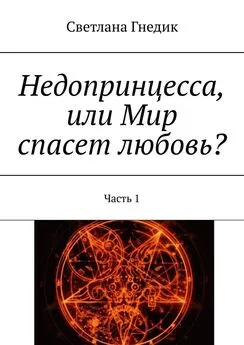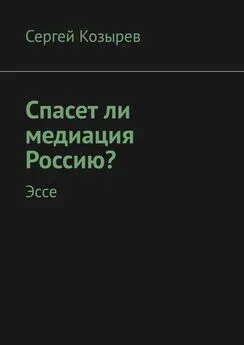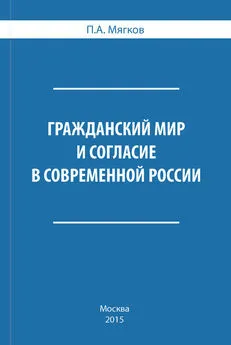Франсуа Федье - «Мир спасет красота». В России
- Название:«Мир спасет красота». В России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Франсуа Федье - «Мир спасет красота». В России краткое содержание
«Мир спасет красота». В России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В уникальном со всех точек зрения стихотворении «В милой синеве» 71, в первой из его трех частей, есть пять слов, где кратко выражено все, что я пытался сказать вам на этом послеобеденном занятии.
Вот эти пять слов:
Reinheit aber ist auch Schönheit.
Чистота, однако, это тоже Красота 72.
Как прокомментировать эти слова? Как, размышляя, проследить за сентенцией поэта? Я мог бы сказать: в ночную эпоху нигилизма чистота сама по себе уже красота — в том, что она поддерживает различение.
Но предоставим лучше комментарий другому поэту. Рембо в конце «Алхимии слова» пишет:
Это в прошлом. Теперь я научился приветствовать красоту 73.
В самом деле, нигилизм проходит сам собой. Уметь ПРИВЕТСТВОВАТЬ красоту есть не что иное, как поддерживать в целости и сохранности 74, во всей чистоте ту незримую гармонию, в которой бьется сердце мира.
Милан, 9 мая 2001 года
В России
Мы с моей женой были в Москве со вторника 17-го до четверга 26 сентября 2002 года. Не один год Владимир Вениаминович торопил меня: «Приезжайте, — писал он, — приезжайте скорее». Эту настойчивость я понимал неверно, думая, что он намекает на «политические» перемены — конец «оттепели», переход ситуации под контроль «антидемократических сил». Но в «мире», в котором мы живем, хоть на Западе, хоть в России, уже нет места для политики в подлинном смысле слова. Воображать себе обратное — значит лишь показывать, что мы не имеем понятия о том, чем политика могла бы, а вернее, должна быть.
Предупреждение моего друга имело иной смысл, который я понял после возвращения в Париж, вспоминая нашу с ним последнюю прогулку 25 сентября. Владимир Вениаминович, его жена Ольга Евгеньевна, двое из их детей, Олег и Дмитрий, и мы с женой — все вместе поехали в Сергиев Посад, в Троице- Сергиев монастырь в самый день праздника святого Сергия Радонежского 75.
Это было странное посещение, в течение которого внешним образом ничего не произошло — как будто мы, западные люди, остались снаружи, не сумев понять, было ли намерением наших русских друзей показать нам что-либо. Погода была прекрасной; ясный, солнечный осенний день, нежно-си- нее небо, листва берез уже пожелтела. Это место, которое прославляет Павел Флоренский, — арестованный советской властью 25 февраля 1933-го и расстрелянный 8 декабря 1938 года, — в своем тексте «Троице- Сергиева лавра и Россия» 76. Мы провели здесь несколько часов; просто гуляли и смотрели. Но когда уходили, Владимир Вениаминович, отведя меня немного в сторонку, шепотом сказал (скорее себе самому, чем мне): «Уже не так, как раньше». Еще одно воспоминание того дня: здание Духовной академии. Мы хотели зайти. Молодой монах за компьютером объявляет нам, что посещения не разрешены.
Накануне, когда мы говорили о Сергиевом Посаде, Владимир Вениаминович сказал, что Павел Флоренский — которого за несколько месяцев до того мой друг Жан-Франсуа Рол- лен 77настойчиво советовал мне читать — называл это место центром Мира 78. Перечитывая в эти дни статью «Троице-Сергиева лавра и Россия», я, кажется, смог лучше понять и то, что писал Флоренский, и то, что сказал мне Владимир Вениаминович. Что же он мне сказал? «Отец Флоренский говорит об обители преподобного Сергия как о центре мира»? Или: «Уже не так, как раньше»?
Мой русский друг хотел показать мне Россию. Россию, чей облик — думает он (но именно ли это он думает?) — сегодня размывается. Что же до меня, то для чего еще я приехал сюда, если не узнать, смогу ли я увидеть Россию. Но что для меня Россия? Всю жизнь она для меня связана прежде всего с книгами, но с книгами определенного рода: теми, в которых отражен некий исключительный, некий очень интенсивный способ жить и быть человеком. Кроме того, Россия для меня — это еще иконы. Наконец, для меня (но уже с гораздо большими трудностями, так как я не знаю языка) это еще и русская поэзия.
В первый вечер, едва мы прибыли в его маленькую квартиру на улице Кадомцева (между речкой Яузой и железной дорогой, ведущей в Сибирь 79), Владимир Вениаминович подал мне № 56 красивого журнала «XX век», посвященного тому, что весь мир называет «Серебряным веком», то есть периоду в истории русского мира (свидетелем которого был Рильке) с конца XIX века до ленинской «революции», отмеченному творческим порывом и духовным брожением, достойным самых плодотворных периодов человеческой истории. Когда я листал журнал, меня не покидала мысль: только благодаря открытому в эти кипучие годы Россия смогла пережить то, что отец Сергий Булгаков называл «варварством, духовным нашествием гуннов на русскую землю, раздавленную чугунным прессом „советской власти“ вместе с миллионами человеческих жизней» 80.
Перед моим отъездом в Москву я писал Владимиру Вениаминовичу: «В этом путешествии у меня нет никаких личных пожеланий, кроме одного: сходить на могилу
Варлама Шаламова». Наш поход туда состоялся в четверг 19 сентября.
Не буду рассказывать о бюрократических утайках, об ошибочных указаниях, о том, как мы бродили без всяких ориентиров (были моменты, когда мне уже казалось, что мы никогда не найдем того, что ищем), притом что у всего этого было особое свойство — обнаруживать сам вкус времени. Мы то и дело упускаем этот вкус из-за спешки, занятости и планирования. Тогда как время, вопреки тому, что нам хотелось бы думать, только и знает, что взрыхляет в нас способность именно так, как подобает, принимать настоящее.
Итак, вкратце: на Кунцевском кладбище, позади церкви, в узенькой аллейке, полого спускающейся между могил, на вертикально стоящем надгробном камне нам предстала чугунная скульптурная голова Шаламова на гранитной стеле. Поэта узнаешь сразу. Пока его окончательно не уничтожат, он не склонит голову.
Через день в Московском университете я скажу (мне удалось сформулировать это для себя тем кунцевским вечером), что хотел пойти на эту могилу потому, что Варлам Ша- ламов теперь является для меня символом самой русской души, той, которую ничто и никто никогда не принудит замолчать.
Я часто читал своим друзьям (а однажды читал даже перед целым классом) текст из «Колымских рассказов» под заглавием «Шерри-бренди», где Шаламов представляет себе смерть Мандельштама.
Где лежит тело Мандельштама? Где-то недалеко от Владивостока. Думая об Осипе Мандельштаме, нам приходится стерпеться с мыслью, что и он был сброшен в общую могильную яму.
Там, где мы остановились в Москве, у Ольги Александровны 81, на старом пианино в ее маленькой квартире стояла скульптура, выполненная кем-то из ее друзей 82: лицо поэта с прижатыми к нему руками.
В этой квартире крохотная прихожая, письменный стол, спальный уголок, кухонька и ванная. Книг нет только в ванной. На стене напротив черного пианино — большая картина Шварцмана. Над пианино — две других. То, что я описываю здесь, могло бы произвести впечатление богатства, тогда как всё ровно напротив. Мы находимся не в центре Москвы, а примерно в восьми километрах от Кремля, в одном из зданий брежневской поры, в тихом, печальном и сером районе, где, впрочем, между домами насажено много деревьев. В окне, справа, на северо-западе, виднеется Останкинская телебашня, ночью напоминающая ракету из научно-фантасти- ческой книжки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: