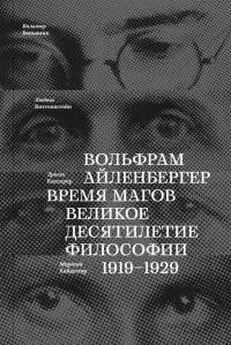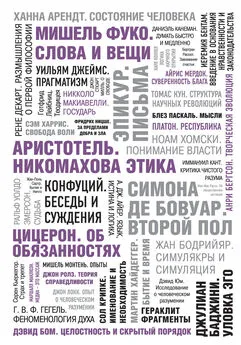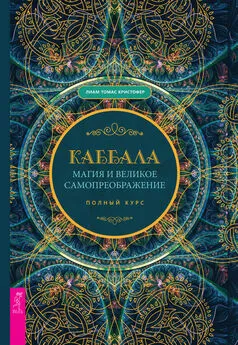Вольфрам Айленбергер - Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929
- Название:Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ад Маргинем Пресс
- Год:2021
- Город:978-5-91103-588-4
- ISBN:978-5-91103-588-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вольфрам Айленбергер - Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929 краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эти вопросы Хайдеггер, получив стипендию католической церкви, детально исследовал в своем труде. И в точности те же вопросы Беньямин намеревался исследовать в своем трактате об иудаистской традиции каббалы и Торы – как он поступил еще в 1916 году в своей первой лингвофилософской работе «О языке вообще и о языке человека». Однако, вопреки первой оценке, после внимательного повторного прочтения книги Хайдеггера, его одолевают всё более сильные сомнения в том, насколько многообещающим может быть теперь его собственный проект. Уже через считаные недели после письма, в котором он полностью уничтожил Хайдеггера, Беньямин снова обращается к Шолему – на сей раз совершенно по-иному:
После теперешних штудий я стал осторожен и сомневаюсь, правильно ли использовать в качестве путеводной нити схоластические аналогии. Не есть ли это, пожалуй, окольный путь? Все-таки работа Хайдеггера, что ни говори, отображает самое существенное из того, что есть в схоластической философии для моей проблемы, – правда, совершенно непрозрачным образом – и в итоге уже как бы намечает связанную с ней истинную проблему. Так что я, наверно, пока что присмотрюсь к философам языка… [84] GB. Bd. II. S. 127.
«Присмотреться к философам языка» – в 1920-е годы требуется конкретизировать вопрос: к кому именно? К Кассиреру? Витгенштейну? Расселу? Муру? Гуссерлю? Фреге? Пирсу?.. Возможно, именно понимание, что более детальное знакомство с тогдашним состоянием исследований, в сфере которых происходил прямо-таки творческий взрыв, предъявляет чрезмерные требования к его ресурсам и интересам, вскоре побудило Беньямина вообще отказаться от проекта. А возможно, причиной стало уже само наличие хайдеггеровской работы. Как бы то ни было, с января 1920 года Беньямин снова на Дельбрюкштрассе – снова у отца. Мучимый сильными депрессиями, он в эти недели совершенно не способен работать, и духовно парализован. План диссертации по философии языка окончательно отвергнут. В конце концов, в его жизни есть и другие проекты. Например, переводы «Tableaux Parisiens» [85] GS. Bd. IV-1. S. 7–65.
(«Парижских картин») Шарля Бодлера, публикацией которых он осенью 1920-го – типично по-беньяминовски заявив, что всё полностью готово, – сумел заинтересовать гейдельбергского издателя Рихарда Вайсбаха. Может быть, удастся даже немного на этом заработать. Четвертого декабря 1920 года Беньямин пишет издателю, уже начинающему проявлять нетерпение:
Я в затруднении, что нужно объяснять мое долгое молчание по поводу перевода Бодлера. Оно связано с желанием представить Вам материал как можно более полно, в окончательной редакции. Всё это затянулось на недели, поскольку в последнее время я много хворал ‹…› Хотелось бы добавить ‹…› что – коль скоро это согласуется с Вашим представлением о публикации – я склонен написать к моим переводам предисловие , причем теоретическое и довольно общее, посвященное задаче переводчика как таковой [86] GS. Bd. IV-1. S. 112f.
.
В самом деле, почему бы не предварить собственные переводы превосходными духовными штудиями к запланированной диссертации «Язык и логос»? С творчеством Бодлера и с собственными переводческими работами это предисловие, конечно, не имело бы совершенно ничего общего, но, по крайней мере, теоретическая работа не пропала бы втуне. Типично беньяминовская идея – и, безусловно, не худшая. Эссе «Задача переводчика» по сей день считается одной из самых известных и систематически ясных работ Беньямина. В нем действительно содержится зерно самостоятельной философии языка.
Задача
Всякая попытка установить систематическую связь между беньяминовскими переводами Бодлера и его текстом «Задача переводчика» неизбежно обречена на провал. Ведь никакой связи попросту не существует, хотя считаные фактические читатели тогдашнего первого издания не могли не предполагать ее наличие, поскольку данный текст был четко обозначен как «Предисловие». Согласно якобы основополагающему, а в конечном счете метафизическому замыслу, данный текст можно было предпослать и любому другому переводу, а лучше всего – вовсе никакому. К тому же, невзирая на название, он не содержит ни единого указания касательно практики перевода, ни даже хотя бы одного конкретного практического примера. Единственная ссылка на нижеследующие переводы Бодлера заключается в том, что, согласно Беньямину, в поэзии проявляется подлинная сущность языка. А тем самым и подлинная задача переводчика. В поэзии язык освобожден от его будничных, конкретно сообщающих функций. Из чего задача переводчика выводится как серьезный парадокс:
Так что же «говорит» поэтическое произведение? Что оно нам сообщает? Совсем мало говорит оно тому, кто его понимает. Самое существенное в нем – не сообщение, не высказывание. И тем не менее перевод, который призван «говорить», может не передать нам ничего, кроме некоего сообщения, – то есть передать нечто несущественное [87] GS. Bd. IV-1. S. 7. См.: Беньямин В. Задача переводчика / пер. И. Алексеевой // Беньямин В. Судьба и характер. СПб.: Азбука-Классика, 2019. С. 16–17.
.
Сущность языка отчетливее всего проявляется в поэзии, и она заключена не в способности одного человека сообщить что-то другому – например, информировать его о некоем положении вещей («Ты забыл у меня свой зонтик!», «Пёс спит в гостиной»). Поэтому задача истинного переводчика не может состоять в том, чтобы как можно точнее передать содержание переводимого произведения.
Иначе говоря, задача переводчика интересует Беньямина – в фундаментальном философском смысле – лишь постольку, поскольку в деятельности перевода можно выявить феномен, имеющий важнейшее значение с точки зрения философии языка .
Чтобы постичь истинную связь между оригиналом и переводом, следует учесть одно соображение, цель которого находится в полной аналогии с цепью рассуждений, используемой критикой познания для доказательства невозможности теории отражения. Ведь эта критика показывает, что в познании не может быть объективности и что на нее даже нельзя претендовать, если допустить, что оно заключается в отражении действительного; точно так же и относительно перевода можно доказать, что никакой перевод не был бы возможен, если бы он по сути своей стремился к сходству с оригиналом [88] GS. Bd. IV-1. S. 7. См.: Беньямин В. Задача переводчика / пер. И. Алексеевой // Беньямин В. Судьба и характер. СПб.: Азбука-Классика, 2019. С. 21.
.
Современный критик, чьи истинные задачи Беньямин раскрыл в своей диссертации 1919 года, сам должен стать творческим соавтором произведения. То же справедливо и для деятельности переводчика: переводом воздать произведению должное означает – на первом этапе аргументации, – не переводить его сообщение и не создавать наиболее верной оригиналу копии на другом языке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
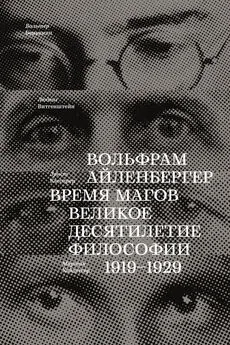
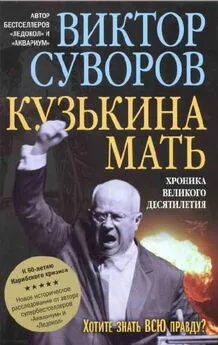
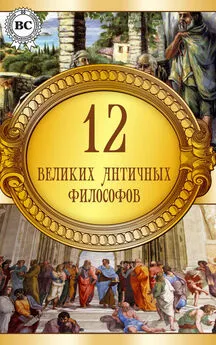
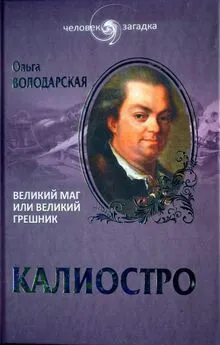
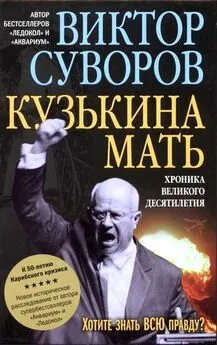
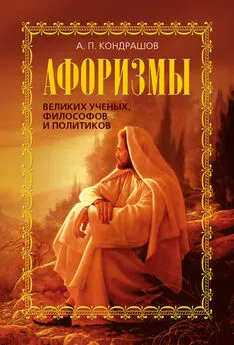
![Сергей Лукьяненко - Время для мага. Лучшая фантастика 2020 [сборник litres]](/books/1075025/sergej-lukyanenko-vremya-dlya-maga-luchshaya-fantastik.webp)