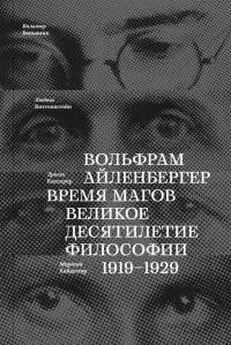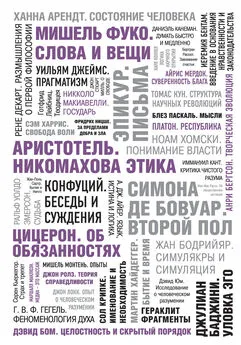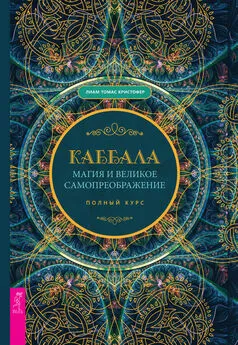Вольфрам Айленбергер - Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929
- Название:Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ад Маргинем Пресс
- Год:2021
- Город:978-5-91103-588-4
- ISBN:978-5-91103-588-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вольфрам Айленбергер - Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929 краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Истинный язык – это, так сказать, идеальная цель всякого говорения: говорение, в котором нам открылась бы каждая вещь в себе во всей своей ясности, дифференцированности и определенности. Как пишет Беньямин в своем эссе 1916 года, это было бы состояние, в котором для всего, что существует, было бы найдено слово или имя, какое вещам дает Бог. Задача переводчика есть задача самого человека.
Человек – это тот, кто именует, именно так мы узнаём, что его устами говорит чистый язык. Вся природа, постольку, поскольку она сообщает себя, сообщает себя в языке, то есть в конечном счете в человеке [91] GS. Bd. II-1. S. 144. См.: Беньямин В. О языке вообще и о языке человека / пер. И. Болдырева // Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012. С. 12.
.
Таково, собственно, мнение Беньямина о том, как решить вопрос о поисках языка, лежащего в основе всякого человеческого высказывания (именно тех поисков, на которые как раз тогда же отправились Витгенштейн, Хайдеггер и Кассирер). Это – язык Бога. Всякое значимое высказывание движется в русле этого истинного языка, находится как бы на пути к нему. Что дело обстоит именно так, невозможно сказать прямо или сделать подобный вывод на основе наших собственных языков, однако это особенно отчетливо показывает себя в определенных констелляциях использования языка, и прежде всего – в переводе поэтических произведений.
Радикальный перевод
Придя к выводу о том, в чем состоит истинная задача переводчика, можно, вместе с Беньямином, распространить его на человеческую речь в целом, на каждый отдельный речевой акт: в конечном счете, каждый человек во вполне определенном смысле имеет свой собственный, а значит, иной язык. Каждый из нас связывает со словом «хлеб» совершенно индивидуальные собственные ассоциации – стало быть, не только речь всегда означает перевод, но даже всякая форма понимания. Каждый для каждого, по мысли Беньямина, есть «французский поэт», чьи речь и именование суть сами по себе часть большой цели, каковой в конечном итоге является человек, и каковая отличает его как культурное существо. Эта цель состоит в том, чтобы привести мир к его максимальному языковому предназначению. Идеальный, обогащенный бесконечным числом тонких переводческих достижений, «истинный язык» для Беньямина – своего рода монада, в которой всякий возможный аспект мира способен отразиться с максимальной четкостью. Подобно речи и мышлению Бога в нашем представлении, такой язык, в конечном счете, был бы неотличим от мира, каков тот есть на самом деле.
Если Витгенштейн как философ языка идет от поэтики в логику и в итоге находит обоим импульсам свою собственную объединяющую форму, то Беньямин скользит от поэзии через логику в глубину – в теологию и иудейский мессианизм. Да, в эти дни Беньямин, изолированный, едва ли кем-то понятый, тоже в глубокой депрессии, сидит в своей комнате на Дельбрюкштрассе. Его конкретное существование в данный момент не позволяет ему выстроить значимое отношение к тому самому миру, который побуждает его как философа к изощреннейшим полетам мысли. В этом плане «Задача переводчика» – яркий пример его самобытного умения уникальным образом связать идеи эстетики и литературы с теологией и теорией познания. Но данный текст воплощает еще и другую, куда реже замечаемую, характеристику его мышления. А именно способность, стремление, делать отправной точкой своего амбициозного теоретического проекта конкретные жизненно-мирские, зачастую биографически совершенно профанные проблемы или переживания. Так и в 1920–1921 годах: Беньямин переводит Бодлера, одновременно бросает на ранней стадии проект диссертации, однако напрямую использует развитые там идеи, чтобы выстроить теорию перевода, которая, опять-таки, преследует одну цель – обосновать переводческую деятельность как философски важную, даже решающую. Чем бы Беньямин не занимался – и в тот период, и в будущем, – что бы с ним не случалось, он тотчас превращает это в (мини)теорию, причем всякий раз такую, которая элегантно возводит то, чем он сейчас занят, то, что он в данный момент переживает, в ранг подлинно важной деятельности, более того, в ранг опыта, потенциально спасительного для мира. И здесь – не только на первый взгляд – сквозит нечто крайне нарциссическое. Но и нечто невероятно чуткое, заряженное энергией, экзистенциальное. Оно требует от творческих энергий его мышления полной отдачи – вплоть до абсолютного предела понятности, а значит, и переводимости. Между тем Эрнст Кассирер, благополучно водворившись в Гамбурге, работает над теми же проблемами. Только вот способ исследования и подразумевания у него абсолютно иной.
Культ и sound
Как мы видим, для чутких философов вопросы «что я могу знать?» и «как я должен жить?» неотделимы друг от друга. Также на них основаны непреходящее воздействие и притягательность выдающихся философов, их потенциальный статус икон и ведущих умов целых эпох.
К тому же, идеал претворения собственного мышления в жизненном мире, в самой чистой форме воплощенный фигурой основоположника философии Сократа, отличает ее от других путей познания, таких как естественные науки или искусство. Быть философом – это способ вести свою жизнь сознательно, посредством постоянного испытующего вопрошания придавая ей движение, форму и направление. Эта особенность приводит философствование к открытому конфликту с его же целями в роли чисто академической дисциплины с ее институционально обусловленными задачами, системой оценок и служебной иерархией. Откровенный скепсис, чуть ли не бунт и презрение к «академическому философствованию», впервые названному так не кем иным, как Хайдеггером, относятся, поэтому, к немногим базовым константами в истории данной дисциплины. В самом деле, вплоть до конца ХХ века большинство выдающихся умов этой гильдии, такие как Спиноза, Декарт, Милль, Юм, Кьеркегор, Ницше, вовсе не работали в университетах. А если работали, то старались держаться на возможно большем внутреннем расстоянии от академии – как, например, Шопенгауэр или, в 1920-х годах, Хайдеггер, Витгенштейн, да и Беньямин. Однозначное отрицание своей роли как академических философов – существенный элемент их самоописания. Тщательно культивируемое, оно создает инсценируемое напряжение, обычно выражаемое понятием «культа». Именно такими предстают Хайдеггер, Витгенштейн и Беньямин уже для своих современников – настоящими культовыми фигурами.
Эрнст Кассирер таким не был и не стал. Еще в начале двадцатых годов современники выбрали для него совершенно другие прозвища. Например, говорили о его «олимпийской» отстраненности. Либо о феномене человека, по манерам, образованию и знаниям «всеобъемлющего», о «последнем универсальном гении» или, по меньшей мере, «универсальном ученом». В менее благожелательных отзывах его, правда, описывали и как чуть ли не парадигматическое воплощение академического «кафедрального философа» и чиновника от философии, который, по словам его коллеги Макса Шелера, писал превосходные, отчасти даже истинные и глубокие, «общеобразовательные книги» [92] Scheler, M. в кн.: Witkop, P. (1922). S. 164.
. Стало быть, порядочный человек и философ, но по-настоящему – не великий.
Интервал:
Закладка:
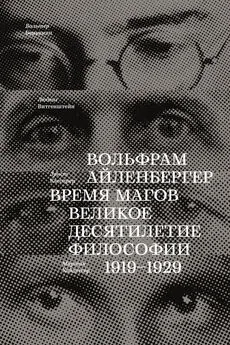
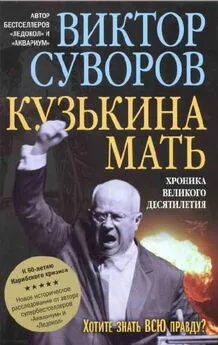
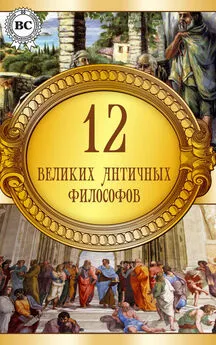
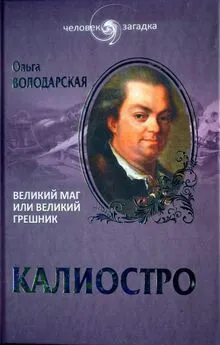
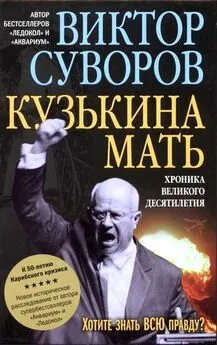
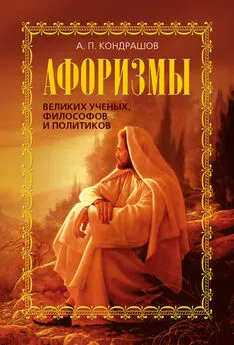
![Сергей Лукьяненко - Время для мага. Лучшая фантастика 2020 [сборник litres]](/books/1075025/sergej-lukyanenko-vremya-dlya-maga-luchshaya-fantastik.webp)