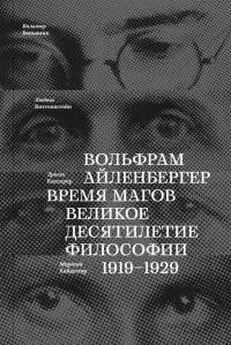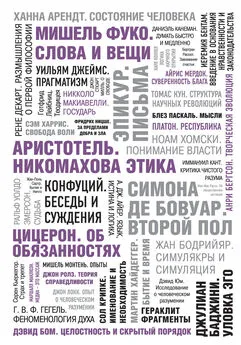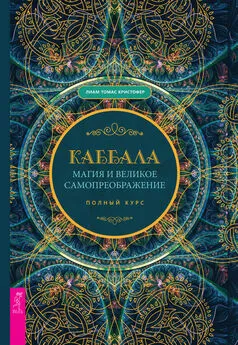Вольфрам Айленбергер - Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929
- Название:Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ад Маргинем Пресс
- Год:2021
- Город:978-5-91103-588-4
- ISBN:978-5-91103-588-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вольфрам Айленбергер - Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929 краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Чуть менее туманно этот тезис, пожалуй, сформулирован как девиз любых курсов перевода: «Точно – насколько можно, свободно – насколько нужно». Где же тут подлиное завоевание познания, где философски новый импульс?
Он основан на существовавшем еще в Средние века философско-языковом различении, которое в означенный период заново актуализировали феноменологическая школа Гуссерля и логико-математическая философия языка Готлоба Фреге. У Фреге это называется различием между «значением» и «смыслом». В феноменологической терминологии Гуссерля – различением между «интенцией подразумеваемого» и «способом подразумевания».
Классический тому пример – различение между «Утренней» и «Вечерней звездой». Оба обозначения соотносятся с одним и тем же небесным телом, а именно с планетой Венерой. Стало быть, в терминологии Фреге они имеют одно и то же значение , но не один и тот же смысл . Ибо разные имена для одного предмета подчеркивают его различные аспекты – его сияние то на утреннем небе, то на вечернем. «Интенция подразумеваемого» – в смысле объекта, на который указывают эти имена, – каждый раз одна и та же. «Способ подразумевания», однако, различен.
Для Беньямина это соотношение двух внутриязыковых обозначений, которые по-разному соотносятся с одним и тем же предметом, есть пример того, как национальные языки, скажем немецкий и французский, соотносятся друг с другом и, главное, с миром.
Любое сверхисторическое родство языков основывается скорее на том, что каждый из них как нечто целое в каждом случае подразумевает одно и то же, причем нечто такое, что не по силам каждому из них в отдельности, а достижимо только с помощью совокупности дополняющих друг друга интенций: чистый язык. Дело в том, что если все отдельные элементы, слова, предложения, средства связи чужих друг другу языков исключают друг друга, то эти языки дополняют друг друга своими интенциями. Если точно сформулировать этот закон, один из основополагающих законов философии языка, то в интенции следует различать то, что имеется в виду, с одной стороны, и способ выражения подразумеваемого – с другой. В словах «хлеб» [ нем. Brot. – Пер. ] и «pain» подразумевается одно и то же, но способ выражения не совпадает. Именно в способе выражения заключается причина того, что оба слова для немца и француза означают нечто различное, что для обоих они не взаимозаменяемы ‹…› но что касается подразумеваемого, то в абсолютном смысле оба слова обозначают одно и то же, они идентичны [89] GS. Bd. IV-1. S. 13f. См.: Беньямин В. Задача переводчика / пер. И. Алексеевой // Беньямин В. Судьба и характер. СПб.: Азбука-Классика, 2019. С. 23.
.
Разные языки – эту мысль Беньямин заимствует у Гердера и Вильгельма фон Гумбольдта – различаются не только «звучанием и знаками» но и особыми способами видеть мир. Мы можем также сказать: собственными способами извлекать из одного и того же предмета (хлеба) слегка другие или же совсем новые аспекты. Они обозначают один и тот же предмет, но разными способами подразумевания. И здесь Беньямин как философ языка неизбежно сталкивается с проблемой, которая чрезвычайно занимала его еще в 1916 году в эссе «О языке вообще и о языке человека». С одной стороны, очень хорошо утверждать, что два слова из разных языков по-разному соотносятся с одним и тем же предметом (скажем, с буханкой хлеба). Только вот то, с чем они соотносятся, само действительно определено и дано только через язык: именно как хлеб – то есть, в конечном счете, через понятие «хлеб». В случае Утренней звезды и Вечерней звезды оба наименования обозначают Венеру, которая в свою очередь идентифицирована как таковая лишь через название «Венера». Иными словами: реальная идентичность предмета, с которым соотносятся оба слова или, по Беньямину, также и языковые системы, опирается на негласную предпосылку одного, единственного и истинного языка в основе всех языков. Языка «истинных имен». Для Беньямина этот идеальный истинный язык есть язык ветхозаветного Бога.
Как мы видели, этот мыслительный мотив объединяющего, обосновывающего, изначального языка, лежащего в основе всех языков и всякого смысла, по-своему не давал покоя и Витгенштейну с Хайдеггером. Что же предлагает Беньямин? Если Витгенштейн указывает на то, что мир имеет ту же логическую форму, что и язык, а Хайдеггер утверждает, что мир изначально задан нам (через язык) в своем пронизанном смыслом опережении, Беньямин решает этот вопрос историко-теологически, утверждая, что «чистый язык», или «истинный язык», есть язык Бога. Вот почему подлинная цель и задача человека как говорящего, исследующего существа – максимальное приближение к непосредственному единству именования и речи, посредством которого Бог объемлет существо вещей (Бог всегда точно находит меткое выражение, от него не укрывается ни один возможный аспект того или иного предмета). Приближение путем созидания языка, который лингвистически как можно более точно объемлет и называет наибольшее число сторон мира.
Именно об этом – и тут как бы падает теоретический занавес – пекутся поэты, каждый на своем собственном языке, называя и высвечивая сущность предметов в ее подлинности. Священная деятельность переводчика воздает должное этой цели, находя как можно более подходящее место в собственном языке для того способа подразумевания, который поэт избрал в своем. Таким образом, задача переводчика – обогатить язык перевода, используя способы подразумевания переводимого языка и таким образом еще больше насытить свой родной язык яркостью. Иначе говоря, задача переводчика – хотя бы приблизить свой язык в его насыщенности к истинному языку, к чистому языку Бога. Ведь хороший перевод великого поэта есть всегда существенное обогащение и приращение различающей силы собственного языка. Он раскрывает ему новые способы подразумевания, новые, опосредованные языком, способы видеть «одно и то же». Как говорит сам Беньямин:
‹…› задача переводчика ‹…› заключается в том, чтобы найти в языке, на который переводят, ту интенцию, которая позволит пробудить в нем эхо оригинала. ‹…› Перевод не ощущает себя, подобно поэзии, в лесной глухомани языка как такового, он вне его, рядом с ним, и, не входя в этот девственный лес, заманивает туда оригинал, в то единственное заветное место, откуда отзвук иноязычного произведения будет слышаться эхом на языке перевода. ‹…› Ибо весь его [переводчика – Пер. ] труд проникнут великим мотивом интеграции многочисленных языков в один, истинный [90] GS. Bd. IV-1. S. 16. См.: Беньямин В. Задача переводчика / пер. И. Алексеевой // Беньямин В. Судьба и характер. СПб.: Азбука-Классика, 2019. С. 26–27.
.
Интервал:
Закладка:
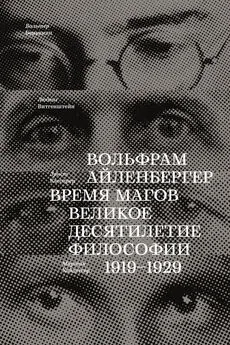
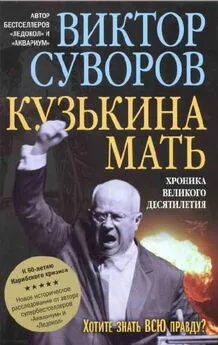
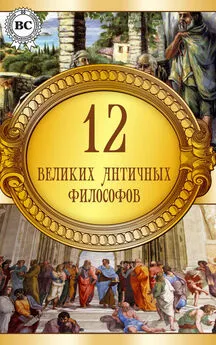
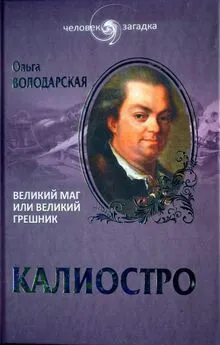
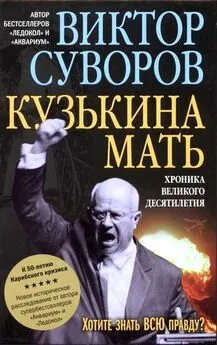
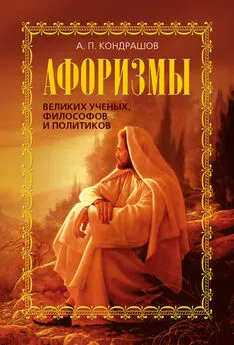
![Сергей Лукьяненко - Время для мага. Лучшая фантастика 2020 [сборник litres]](/books/1075025/sergej-lukyanenko-vremya-dlya-maga-luchshaya-fantastik.webp)