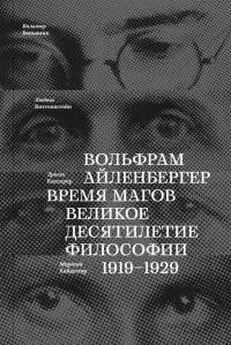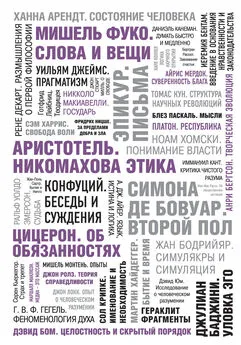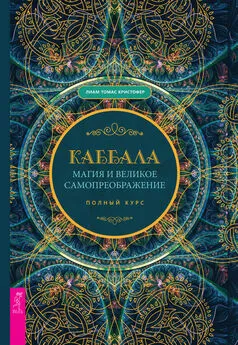Вольфрам Айленбергер - Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929
- Название:Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ад Маргинем Пресс
- Год:2021
- Город:978-5-91103-588-4
- ISBN:978-5-91103-588-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вольфрам Айленбергер - Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929 краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
При всем благорасположении к автору, которого я знаю как человека толкового и остроумного, [я не могу] не высказать сомнение, что при его заумной манере выражения, которую, видимо, следует трактовать как знак отсутствия ясности относительно предмета, он не может руководить студентами в данной области [206] Цит. по: Jäger, L. (2017). S. 153.
.
Что касается предисловия, оценка абсолютно понятная, тем более что именно так оценил его и сам Беньямин, когда говорил Шолему о «самой хрупкой части целого». Действительно, масштабы неумелости и нехватки стратегического мышления в построении работы наводят на подозрение в умышленной обструкции. Во всяком случае, крайняя усложненность и эзотеричность слога, намного более замысловатого, нежели его предисловие к переводам Бодлера, создают впечатление, будто автор от страха перед возможным отклонением работы предпочитает взять эту предполагаемую судьбу в собственные руки, обеспечивая всех участников множеством прекрасных предлогов именно для такой оценки. Стоит всерьез подумать и о том, не стало ли бы для видов автора на защиту еще более сокрушительным ударом, разъясни он рецензентам смысл своего предисловия хотя бы в принципе. В письме Шолему Беньямин характеризует эту часть работы как
безмерную хуцпу [207] Наглость ( идиш ).
– а именно не больше и не меньше чем пролегомены к эпистемологии, нечто вроде второго, не знаю, лучшего ли, этапа прежней, известной тебе работы о языке, причесанной под идейное учение [208] GB. Bd. III. S. 14.
.
Дело для Адама
Под «прежней работой о языке» Беньямин имеет в виду написанный в 1916 году и опубликованный посмертно текст «О языке вообще и о языке человека» [209] GS. Bd. II–1. S. 140–157. См.: Беньямин В. О языке вообще и о языке человека. С. 7–26.
. Насыщенный мотивами еврейской теологии, этот текст анализирует эпоху философии Нового и Новейшего времени, и особенно ее философии языка, как эпоху далекого от истины упадка, чьим итогом стало состояние глубокой скорби, охватившее всю природу, в том числе и современных людей. Те же философские мотивы отличают и «Эпистемологическое предисловие» к работе о барочной драме.
Использованное Беньямином заглавное понятие «эпистемологии» определенно соотносится с преобладающей в культуре в 1925 году трактовкой современной философии как теории познания. Полностью в духе первого и якобы ключевого вопроса Канта: «Что я могу знать?» Вместо того чтобы прямо ответить на этот вопрос, Кант в своей «Критике чистого разума» (1781) – и в этом состояла эпохальная гениальность его подхода – счел уместным для начала тщательно проверить условия и границы самóй человеческой способности познания.
«Эпистемологическое предисловие» Беньямина, однако, есть не очередное упражнение в пределах этой дисциплины, то есть, критики познания, но, скорее, поэтико-аналитическая фронтальная атака на широко распространенное представление, что главная задача будущей философии заключается в занятиях эпистемологией кантовского толка. Иными словами, Беньямин критикует возникшее в тот момент сужение современной философии до одной лишь теории познания. Для него подобная конструкция – развитие совершенно ошибочное, разрушительное для культуры в целом.
В диссертации Беньямина речь идет в первую очередь не об анализе «формы барочной драмы» и ее вероятного происхождения, а о замаскированной под литературоведческий анализ фундаментальной критике той «драмы», в которую на его глазах превратилась вся современная философия. Поэтому вполне логично, что в предисловии речь идет не о выявлении истинных условий возможности познания , а, напротив, о как можно более тщательном изображении преобладающих условий невозможности истинного познания, возникших в модерную эпоху.
В феномене барочной драмы – и здесь находится ключ ко всему предпринятому Беньямином анализу – упомянутые негативные условия находят свое художественное выражение в необычайно концентрированном виде. Они проявляются в реально существующих произведениях барочной драмы с образцовой ясностью, получают в них парадигматическое художественное воплощение. Раскрыв истины, столетиями сокрытые в этих произведениях искусства, Беньямин уже в своей диссертации 1919 года выявил подлинную функцию критики .
Когда цель работы таким образом раскрыта, возникают, собственно говоря, всего лишь три существенных вопроса, полностью сооответствующих структуре изложения Беньямином своих тезисов. Вот они: что такого разрушительного в редукции современной философии к теории познания, в чем ее главные ошибочные допущения? («Эпистемологическое предисловие»); какая форма скорби (Trauer) возникает из присущего ей миропонимания? (Часть I: «Драма и трагедия»); и в какой мере аллегория как языковое средство и художественная форма выполняет в рамках анализа этого упадка особую эпистемологическую функцию? (Часть II: «Аллегория и драма»).
Подобно наброскам из мастерской художника, основные тезисы Беньямина разбросаны по всему предисловию. Вот почему этот текст считается не только одной из самых расплывчатых, но и одной из самых богатых работ, когда-либо написанных на немецком языке. Аналитически проработанный и, в соответствии с замыслом автора, сосредоточенный на вопросе о роли языка как общего условия познания, он выстраивается в насыщенное собрание всех главных философских убеждений, которые с 1916 года определяют и направляют философский путь Беньямина. Предисловие Беньямина, словно загадку сфинкса, каждый читатель, если он хочет свободно двигаться в пространстве его мышления, должен разгадывать сам. Попытка того стоит.
Работа скорби
Прежде всего, подлинный первородный грех современной философии языка заключается для Беньямина в допущении принципиальной произвольности языковых знаков. В соответствии с нею, например, слово «стол» находится к обозначенному им объекту не в сущностном, но в совершенно произвольном отношении. Этому основному допущению современного мышления, которое в действительности едва ли когда-либо ставилось под вопрос, Беньямин противопоставляет адамическую, или даже райскую, концепцию языка. В изначальном, а стало быть, подлинно устанавливающем значения языке – Беньямин называет его «чистым языком» – знаки/имена вещей стояли отнюдь не в произвольном, но, скорее, в необходимом и сущностно-определяющем отношении к означаемому:
Адамическое именование столь далеко от того, чтобы быть игрой и произволом, что именно в нем находит свое подтверждение райское состояние как таковое, которому еще не было нужды бороться с означением слова, предназначенным для сообщения [210] GS. Bd. I–1. S. 217. См.: Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. С. 17.
.
Интервал:
Закладка:
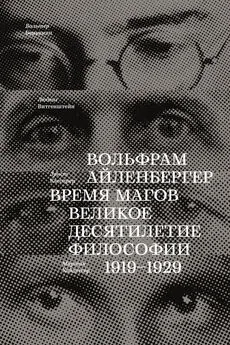
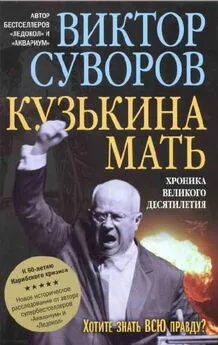
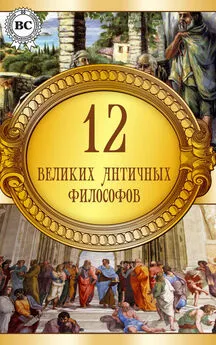
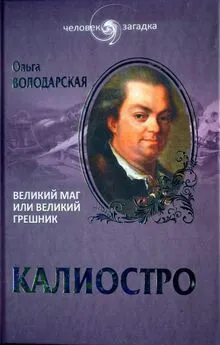
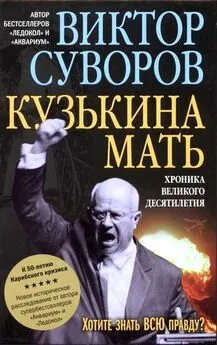
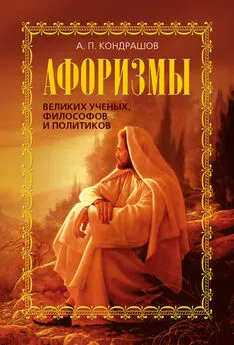
![Сергей Лукьяненко - Время для мага. Лучшая фантастика 2020 [сборник litres]](/books/1075025/sergej-lukyanenko-vremya-dlya-maga-luchshaya-fantastik.webp)