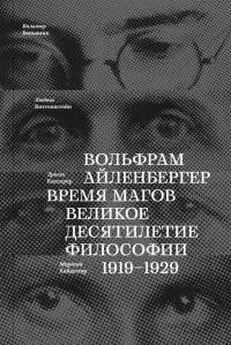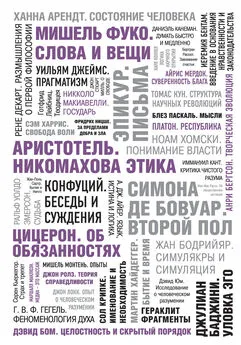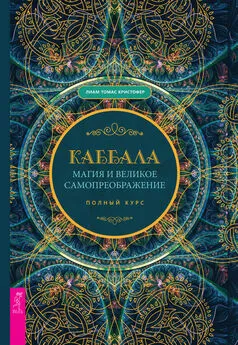Вольфрам Айленбергер - Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929
- Название:Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ад Маргинем Пресс
- Год:2021
- Город:978-5-91103-588-4
- ISBN:978-5-91103-588-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вольфрам Айленбергер - Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929 краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Следовательно, второе принципиально ошибочное допущение современной философии языка состоит в том, что она признает в коммуникации подлинную задачу, даже сущность языка. По Беньямину, язык – это отнюдь не средство передачи другим людям пригодной для использования информации, но медиум, в котором человек воспринимает себя самого и все окружающие его вещи – то есть, называя, познает их и себя. Не человек высказывается через язык, но язык говорит в нем:
Фундаментальный смысл имеет понимание, что эта духовная сущность сообщает себя в языке, а не посредством языка. То есть у языков нет глашатая (Sprecher der Sprachen), если понимать под ним того, кто посредством этих языков сообщает себя через языки. Духовная сущность сообщает себя в языке, а не посредством языка [211] GS. Bd. II–1. S. 142. См.: Беньямин В. О языке вообще и о языке человека. С. 9.
.
То, что Беньямин в 1916 году еще называет «духовной сущностью», он в предисловии к «Барочной драме», называет «идеей», стремясь «всё стилизовать под учение об идеях». Его тезис: язык стоит отнюдь не на службе у профанного сообщения, но на службе у откровения бытия. То есть язык, трактуемый правильно, есть событие откровения, а не событие сообщения. Вполне созвучно, кстати, с Витгенштейном в «Трактате», а равно и с мало-помалу складывающимися около 1925 года соображениями Хайдеггера по поводу сущности языка.
Однако же откровение – это совсем не то, на что способны сами жаждущие познания индивиды. Скорее, обнаружение этого просветляющего события требует определенного, достаточно пассивного отношения, определяемого вслушиванием человека в бытие. Стало быть, отношения, прямо противоположного современному научно-исследовательскому вопрошанию природы (например, в форме научного эксперимента), а значит и мыслящему модерному субъекту, с интересом собирающему знания.
На месте одномоментно искупающего события откровения или просветления, которое, по Беньямину, совершенно определенно суть не от мира сего и не может получить в нем никакого активного воплощения, в модерне возникает философия истории под знаком постепенного, в том числе социального, прогресса во всех областях. Его понимают как движение по направлению к истине, свободе, справедливости.
Этой картине непрерывного прогресса человечества, которая вдохновляла всё Просвещение и, в частности, философию Иммануила Канта, у Беньямина противостоит логика сокрушительного перелома, позднее названного «шоком». Лучшим примером таких определяющих «шоковых» событий, опрокидывающих и созидающих целые мировоззрения, являются первоистоки или же происхождения ( Ur-Spruenge ) . Например, «Происхождение барочной драмы»:
В происхождении не предполагается никакого становления возникшего (Werdendes Entsprungenen), скорее подразумевается возникновение из становления и исчезновения. Происхождение стоит в потоке становления как водоворот и затягивает в свой ритм материал возникновения [212] GS. Bd. I–1. S. 226. См.: Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. С. 27.
.
Происхождение для Беньямина, это, стало быть, не событие в историческом времени, но начало как новых способов его исчисления, так и новых отношений с миром [213] Ср.: Heidegger, M., „Der Ursprung des Kunstwerks“, in: GA. Bd. 5. S. 1–74. См.: Хайдеггер М. Исток художественного творения / пер. А. Михайлова // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М.: Гнозис, 1993. С. 47–116.
. Происхождение современной философии и всего того, что оно захватывает в свой водоворот из предшествующих констелляций знания, дабы иметь возможность самостоятельно себя утвердить, и есть подлинный предмет беньяминовского мышления в его становящейся целостности.
Припоминающее слушание
Уже здесь заметно, как бесконечно далека работа Беньямина в подходе и характере задач – или требований – от академической диссертации. Неудивительно, что те, от кого зависела ее оценка, были поражены и, соответственно, неприятно удивлены. Они с полным правом просили представить аттестационную работу и ожидали таковую. А получили философскую речь в суде. Причем такую, где говорилось не о раскрытии, скажем, духовной нищеты автора, но о раскрытии духовной нищеты всего философствования его времени. «Эпистемологическое предисловие» само намерено стать событием – всё захватывающим и всё раскрывающим прыжком в новое, преодолевающее современную философию мышление. В самом деле, безмерная хуцпа.
Особенно – если учитывать, сколь реакционную, казалось бы, альтернативу происхождения предлагает Беньямин эпохе современной философии. В конечном счете, по Беньямину, только некий Бог – событие такое же божественное, как и сам феномен речи, – может обеспечить истинное спасение. Подобно тому, как язык для него – основа всякого осмысленного подхода к миру – не может иметь человеческого происхождения, ровно так же не может он быть и спасительным шоковым событием осознания истины (на некоем «чистом» языке). Поэтому, подобно Витгенштейну, Беньямин снова и снова настаивает, что чудо языка не может быть объяснено в самом языке. В крайнем случае, его подлинную сущность можно показать через особые языковые способы представления.
Языковое усилие, необходимое, чтобы вывести из фактического праслушания (Urvernehmen) конкретной эпохи точные указания на его подлинные, «исходные», основания, – вот что Беньямин называет философией, причем существующей в форме воспоминания.
Дело философа – путем представления (Darstellung) вернуть примат символическому характеру слова, в котором идея обретает согласие сама с собой, являющееся противоположностью всякого направленного вовне сообщения. Так как философия не имеет права претендовать на откровение, то это может произойти единственно через воспоминание, возвращающееся к праслушанию [214] GS. Bd. I–1. S. 217. См.: Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. С. 16–17.
.
Такому воспоминанию, прежде всего представляющему собой погружение в художественные мыслеобразы, специально для этой цели созданные, свойственен, скорее, пассивный характер слушания – а не характер, скажем, активного познания. В этой связи, когда, как подчеркивает Беньямин, речь идет в первую очередь о понимании невозможности, нужно говорить о «плодотворном скепсисе». Свое осуществление он находит в нацеленной на умозрительный повтор заостренности собственного восприятия открытой данности всех феноменов во всем их возможном богатстве опыта. Вполне сравнимо, например, с буддийской мандалой, в аллегорически заряженный узор которой должен погрузиться ищущий дух, обретая ясность и стирая все мнимые образы. Словами Беньямина:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
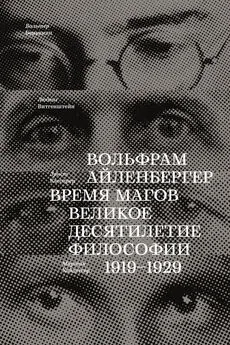
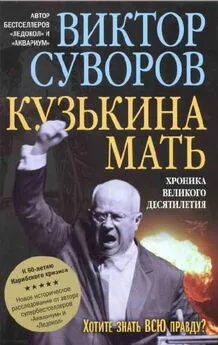
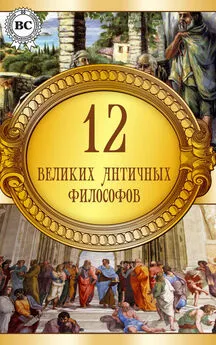
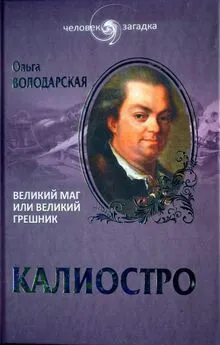
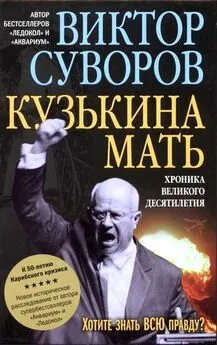
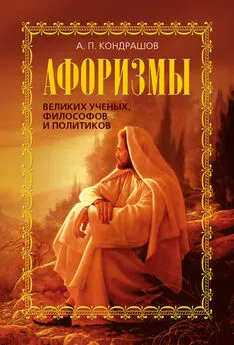
![Сергей Лукьяненко - Время для мага. Лучшая фантастика 2020 [сборник litres]](/books/1075025/sergej-lukyanenko-vremya-dlya-maga-luchshaya-fantastik.webp)