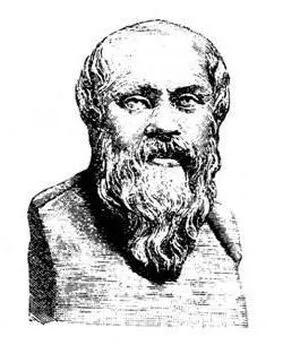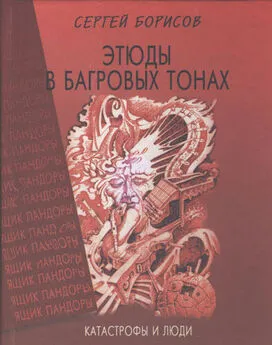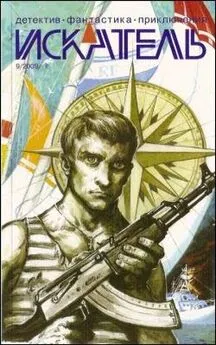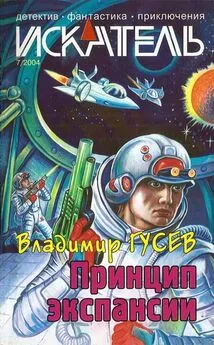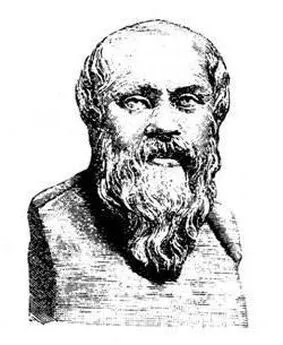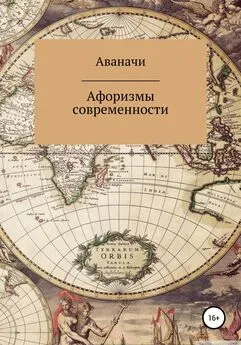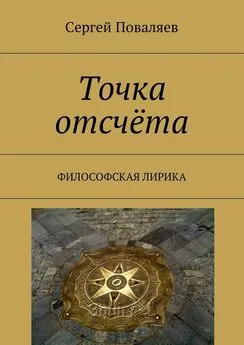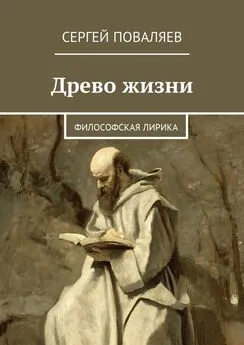Сергей Борисов - Сократы современности. Философская практика в технообществе
- Название:Сократы современности. Философская практика в технообществе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005680068
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Борисов - Сократы современности. Философская практика в технообществе краткое содержание
Сократы современности. Философская практика в технообществе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Полагаю, что я вдохновил лишь немногих, поэтому у тех, для кого важны рассудительность и доводы здравого смысла, может возникнуть вопрос: «А зачем практиковать философский образ жизни?» Только для того, чтобы понять наконец что-такое свобода и обрести ее. Или, используя философские концепты Жана-Поля Сартра, для того, чтобы освободиться от связей «мира-в-себе» и обрести «мир-для-себя». Пока я целиком и полностью поглощен нуждами, заботами и требованиями одного мира, я просто не могу понять, что есть другой мир. Он мне просто не виден, он закрыт для меня, хотя он находится так близко, что рукой подать. Посмотрите вокруг, в мире что-то происходит, я вовлечен в эти события, я просто не могу в них не участвовать, поэтому в этом внешнем мире нет никакого выбора. Даже если я делаю выбор, это «выбор без выбора», ибо я скован по рукам и ногам цепями детерминизма как узник «платоновской пещеры». Где же здесь свобода? Вы правы, здесь в «мире-в-себе» свободы нет, ибо я не могу ничего изменить, но у меня есть выход, «волшебная дверца» ускользания из этого мира, к которой прибегает любой, кто нашел от нее «золотой ключик», – я могу перейти из модуса объектности в этом мире в модус субъектности. То есть, я должен ответить на простой (по формулировке, но не по способу решения) вопрос: «Быть или не быть?» Но не в гамлетовском, а в экзистенциальном смысле. Если я выбираю небытие, не-присутствие, то я позиционирую себя в качестве объекта, кого-то (das Man), кто должен здесь находиться и играть ту роль, которую ему предписывают обстоятельства, роль кого-то другого. Тем самым я исповедую эту «плохую веру» и самозабвенно играю роль жертвы обстоятельств. А иногда даже оправдываю свое «алиби в бытии» своей жертвенной ролью и даже упиваюсь этой ролью жертвы обстоятельств (хотя, по Михаилу Бахтину, ни у кого из нас нет «алиби в бытии». 3 3 Бахтин М. М. Собрание сочинений в 7 т. М.: Издательство «Русские словари»: «Языки славянской культуры», 2003. Т. 1: Философская эссеистика 1920-х годов. С. 41—42.
Если же я выбираю бытие, присутствие (be present, da-sein), то я остаюсь ни «чей», а «свой собственный», субъект, я выбираю присутствие в мире в целом и присутствие себя целиком, а не какую-то часть себя соответствующую какой-то части мира. Своим мышлением я преодолеваю аналитическую фрагментарность мира и себя самого и синтезирую их целостность. Как писал Владимир Бибихин: «Мир дает о себе знать прежде всего в человеческом бытии и больше нигде с такой ясностью, как в нем. Мы находим свое место в мире так, что мир имеет место в нашем бытии как мелодия присутствия». 4 4 Бибихин В. В. Мир. – Томск: «Водолей», 1995. С. 57
Для того, чтобы всегда присутствовать, быть, мы обладаем всеми необходимыми предпосылками. Задача выбраться из «мухоловки» искажений и условностей и наконец прорваться к реальности. Свобода быть, присутствовать открывает нам эту реальность, критерием которой является не скованность непреодолимыми обстоятельствами, а интенсивность проживания своего присутствия. Реальность проявляется («просветляется») не в осознании своей неспособности, обусловленной внешними препятствиями, а в осознании своей способности быть активным, активно-озабоченным (но не мнением других о себе, а активно-озабоченным самим собой), всё время стремиться к новому. Однако свободу нужно не только осознать, но и научиться быть свободным. Для этого надо ее практиковать. Возникает вопрос: как и где это делать? Ответ на это вопрос очевиден: практиковаться в свободе присутствия можно только упражняясь в философии . Когда-то на заре философии «философская речь» и «философская жизнь» представляли собой неразрывное единство по способу осуществления и тождество по форме выражения. Однако по мере накопления знаний о философии в их систематическом изложении центр философского круга разбежался на два фокуса философского эллипса. Поэтому, по словам Генри Торо, мы встречаем немало профессоров философии, но среди них так мало философов по жизни. 5 5 Адо П. Философия как способ жить: Беседы с Жанни Карлие и Арнольдом Дэвидсоном. – М.; СПб.: Издательство «Степной Ветер»; «Коло», 2005. С. 174.
Философия перестала быть практикой, волевой личностной практикой служащей цели самотрансформации, как определяет ее историк философии Пьер Адо. 6 6 Там же. С. 141.
Но ведь на самом деле, все что мы называем философской теорией, по сути, – это свод духовных упражнений, которые нужно практиковать. Например, знаменитое определение Платона – «философия есть упражнение в смерти». Если мы попытаемся попрактиковаться в этом, то увидим, как слой за слоем мы приближаемся к той глубине философского понимания, которая открывает суть нас самих. Если мы с помощью ἐποχή (удержания скороспелого суждения, феноменологической редукции, накладывающей осознанный запрет на любую объективацию, естественную установку) достигли этой глубины и услышали ее голос (кстати, этим голосом может быть и благоговейное молчание, которое, по мысли Пиррона из Элиды есть подлинная философия), 7 7 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Издательство «Мысль», 1998. С. 365.
значит мы и приобрели тот чистый феноменологический опыт, который открывает суть нашей человечности (не только в узком смысле понимания нашей нравственности, но и понимания человека вообще). «Не предавать ничего забвению, но усваивать; не отвлекаться, но внутренне прорабатывать; не улаживать дело, но прояснять его – это и означает: вести философский образ жизни», – пишет Карл Ясперс. 8 8 Ясперс К. Введение в философию. Мн.: Пропилеи, 2000. С. 124.
Что же может быть содержанием философского мышления? Не мысль сама по себе, а я как мыслящий . Если я любуюсь философской мыслью как какой-то красивой вещью, я не разделяю ее в полной мере, более того, я ее могу совсем не разделять. Я нахожусь с ней в отношении «Я-Оно», поэтому я не вижу ее новизны, наоборот, мое критичное отношение к ней даёт мне право судить о ней с позиции соответствия или несоответствия тем или иным мыслительным шаблонам, по которым выстраивается привычная для меня картина мира, обусловленная логикой привычных для меня суждений. Быть всецело вовлеченным в мысль означает осознавать себя мыслящим, когда я и моя мысль составляют единое целое. По словам Мартина Хайдеггера, «вопрос о сущности истины находит ответ в утверждении: сущность истины есть истина сущности ». 9 9 Хайдеггер М. О сущности истины // Философские науки. 1989. №4. С. 103.
В этом «Я-Ты» отношении я выхожу за пределы (go beyond, transcend) своих привычных шаблонов реальности. Подлинно философская мысль – это всегда «мысль впервые», то есть умение помыслить ранее мной немыслимое и, если повезет, найти для этого нового понимания подходящие глубокие слова. Поэтому истинно философствующий всегда говорит от первого лица, говорит открыто и правдиво ( παρρησία ). Полной гарантией παρρησία является собственное присутствие субъекта. Правда того, что он говорит, должна обнаруживаться в его поведении и образе жизни. Говорить то, что думаешь, думать то, что говоришь, вести себя так, чтобы слова не расходились с поступками, – это своего рода добровольное обязательство, которое лежит в основе действия, которое постепенно объединяет говорящего субъекта с истиной им формулируемой. 10 10 Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981—1982 учебном году. СПб.: Наука, 2007. С. 397—398.
Интервал:
Закладка: