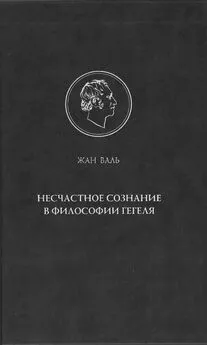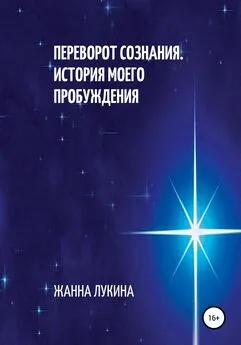Жан Валь - Несчастное сознание в философии Гегеля
- Название:Несчастное сознание в философии Гегеля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Владимир Даль
- Год:2006
- Город:Санкт–Петербург
- ISBN:5-93615-061-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Валь - Несчастное сознание в философии Гегеля краткое содержание
В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является. Отчасти именно рефлексия над христианским мышлением, над представлением о Боге, создавшем человека, приводит Гегеля к концепции конкретного всеобщего. За философом мы обнаруживаем теолога, а за рационалистом — романтика. Для широкого круга читателе
Несчастное сознание в философии Гегеля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Таким образом, оказывается, что Гегель благодаря своим собственным размышлениям пришел к результатам, составлявшим философию Шеллинга. Когда Гегель определяет разум как тождество различного, он сообщает форму тем мыслям, которые у него уже давно были, а не присоединяется, как, возможно, верил он сам, к теориям Шеллинга. С другой стороны, идеи движения, свойственного сознанию, превосходства субъекта, как более непосредственного отражения Бога, единства конечного и бесконечного на основе воплощения, настойчивое обращение к рефлексии, место, отводимое негативности как деятельности, уже вынуждают не подозревающего об этом Гегеля отделиться от Шеллинга и вернуться на более глубоком уровне к Фихте. Разве не Фихте был намерен в 1804 году доказать, что абсолют Шеллинга представляет собой вещь?
Наконец, можно сказать, что поздняя философия и Фихте, и Шеллинга состоит из попыток достичь такого видения мира, которое включалось в некоторые из ранних работ Гегеля.
184
Речь идет не о той вере, которая является «следствием работы памяти», о пассивном восприятии того, что не может воспринять разум, о слабости. Эта последняя, между прочим, является промежуточной между нашим состоянием и состоянием окончательного единства.
185
См. о теории веры в «Различии»: «Вера есть тождество, разум, но еще не знающий сам себя, разум, которому сопутствует познание разделения». Предчувствие бессознательного единства, сознания разлада — такой является в этом случае вера; она является антиномией, поскольку она представляет собой переход в той мере, в какой она ощущает себя одновременно и свершившейся, и незавершенной, от представления о том, что должно быть, к видению.
Гегель, не заботясь чрезмерно о своих собственных теориях, довольствуется всякий раз новым изучением факта веры. Иногда он видит в ней промежуточное состояние между единством и полным разладом, иногда живое абсолютное единство, иногда утверждение объективного элемента и смерть. Существует целая лестница видов веры, начиная с той, которая есть смерть и разделение, и заканчивая той, что представляет собой жизнь и единство.
В большинстве случаев он, впрочем, подчеркивает ее промежуточный характер; будучи единством в разладе, вера представляет собой счастливое сознание в той мере, в какой она находит себя в сознании несчастном.
Отметим также тот способ, каким он вместе с Гаманом и Якоби сближает ее иногда с идеей бытия, иногда — с идеей отношения; но в таком случае он видит в ней отношение, которого нет в мире отношений, «отношение живых существ», «лишенное связи с объективностью».
186
См.: Гельдерлин . Des Geistes Werden. T. I; Гиперион . T. II. Ichroman, и Эмпедокл: «И осторожно мы приводим в движение то, что движет всем, разум». См. также историкокритическое издание, т. III, о связи идеи разума и идеи религии. Дух объединяет то, что противоположно, противопоставляет то, что едино, связывает то, что свобод но, обобщает то, что является единичным: существует момент, когда жизнь и разум познают их общие основания.
Об идее разума у Гегеля см.: Julia Wcmly. Prolegomena zu einem Lexicon der ästhetischethischen Terminologie, и Victor. Die Lyrik Helderlin’s. Следует особо отметить влияние Гердера. См. также использование выражения в «Ansichten» Форстера: «Разум, который мыслит сам себя». Фр. Шлегель, так же как Фихте и Шеллинг, часто использует это слово.
187
Начиная с 1787 года Гегель, согласно статье Кюстнера, писал: «Все есть вера; все есть развитие». В то же самое время он обнаруживает у Николаи лейбницевскую идею, что все в природе происходит постепенно. Чтение Гер дера должно укрепить эту концепцию.
188
Необходимо показать «жизнь, проходящую через все свои ступени, и для того чтобы завоевать все в целом, не останавливающуюся ни на одной из них, растворяющуюся в каждой, чтобы утвердить себя на следующей». Об обмене и о соприкосновении крайностей, о переворачивании отношений см.: Grund zum Empedokles. Т. 111. P. 321–322. Самым поразительным, когда сравниваешь некоторые философские страницы Гельдерлина и теологические сочинения Гегеля, является не столько то определенное число сопоставлений текстов, которое можно сделать, сколько один и тот же тяжеловесный способ мышления, один и тот же неформальный и поэтому запутанный, увязший в материале способ, который у Гегеля относится главным образом к теологической субстанции, а у Гельдерлина — к субстанции поэтической. Оба приходят к идее необходимости борьбы и противоположности и, говоря словами Гельдерлина, породнения того, что чужеродно, и оба делают это похожим способом, потому что у каждого из них этот способ остается весьма близким глубокому опыту, имеющему, впрочем, у каждого из них различную природу. Для Гегеля это борьба идей в душе идущих друг за другом философов и в душе каждого из них; для Гельдерлина — это борьба в душе поэта: борьба, говорит Гельдерлин, между внутренним и потребностью внешнего выражения, между духовным содержанием, которое родственно всем частям, и духовной формой, которая является изменением всех частей, борьба между постоянством и поступательным движением разума, а также борьба, как в греческой трагедии, одной речи против другой, причем каждая из них уничтожает другую. Кроме того, если Гельдерлин смутно предчувствует, не давая ей имени, идею всеобщего конкретного, то дело в том, что он рассматривает поэтическую жизнь в той мере, в какой она может быть выражена во множестве возможных поэтических форм. Поэтический разум, говорит он, не может остановиться ни на гармонически противоречивой жизни, ни на постижении этой жизни посредством гиперболических противопоставлений; чтобы не исчезнуть в пустой бесконечности, где все исчезает в изменчивости противоположностей, какими бы гармоничными они ни были, необходимо, чтобы поэтический разум в своем единстве и в своем постепенном изменении нашел для себя бесконечную точку зрения, где в постепенном движении и в гармоничном изменении все двигалось бы посредством перемещений вперед и назад. Тогда появится бесконечное единство, где все моменты будут длиться и, перетекая друг в друга, будут друг в друге присутствовать. Чувство такой длительности и такого присутствия — это знак поэтической индивидуальности.
189
Дельбос указал на отрывок Шеллинга о тождестве противоречий (в «Vorlesungen über die Methode»). Можно также процитировать утверждения и Гамана, и Новалиса: разрушить принцип противоречия; всякое действие покоится на противоположном, всякое сознание — на противоположности; все антиномично. Новалис, в частности, применяет эту формулу к тождеству пассивности и активности. В двойственности он видит существенный признак гения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: