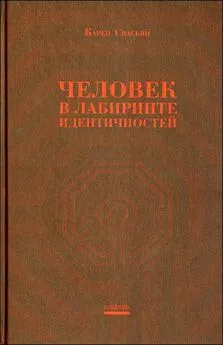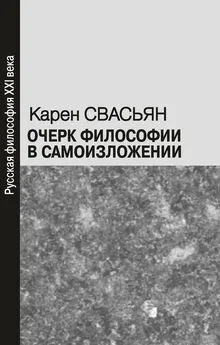Карен Свасьян - Становление европейской науки
- Название:Становление европейской науки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Evidentis
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карен Свасьян - Становление европейской науки краткое содержание
Первая часть книги "Становление европейской науки" посвящена истории общеевропейской культуры, причем в моментах, казалось бы, наиболее отдаленных от непосредственного феномена самой науки. По мнению автора, "все злоключения науки начались с того, что ее отделили от искусства, вытравляя из нее все личностное…". Вторая часть исследования посвящена собственно науке.
Становление европейской науки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
когда Королевское Общество приведет « нас » на самый край света, откуда можно будет лучше (!) наблюдать луну. «Для репутации утонченного джентльмена, — говорит Маколей, — было почти необходимым умение поддержать разговор о воздушных насосах и телескопах, и даже светские женщины… посещали на каретах, запряженных шестеркой, Грэшемские диковинки, крича от удовольствия, когда магнит притягивал иголку, а микроскоп делал из мух воробья» [463]. Мы присутствуем при рождении « научного духа »; впоследствии, уже окончательно утвердившись, он приложит уйму усилий, чтобы скрыть « светскость » своего происхождения, выдавая себя за победный демарш « самой истины »; как бы ни было, права на него навсегда останутся и за « историей мод ». В этом мире, отданном на откуп « Его Проклятому Величеству Случаю », выбор моды пал на науку; « ученый муж » первой половины XVII века — существо вполне еще асоциальное, связанное с себе подобными паролем своеобразной эзотерики; странная каста одиноких гениев, извне выглядящая неким assotiatio obscurorum virorum, но и подкупающая новизной на фоне общей девальвации традиционной метафизики. « Новизна » решала всё; пути культуры вели уже не в Рим, а в Париж эпохи Регентства, предстающий в духовной географии Нового времени некой запоздалой реминисценцией Багдада эпохи Абассидов; с 1700 года Париж уже не « первый среди равных », но просто « единственный », — город-символ, город-экзамен, город-испытание: настоящий лакмус всеевропейской культурности, купель, без погружения в которую нечего было и мечтать о заметании следов « провинциализма » [464]. Париж –
культурный центр всяческого духовного и не только духовного растления; аббат Галиани, называющий его Римом и Меккой философов (или «европейской кофейней», «ce café de l’Europe» [465]), в разгар просветительской оргии обратится к французам с жутким предостережением — самый зловещий прогноз из всех, когда-либо раздававшихся в адрес этой нации: «Пороки Ваши чудовищны, это правда; но они таковы, что вся Европа хотела бы их заполучить и готова была бы щедро оплатить уроки своих наставников… Вы будете ничем, если Вы перестанете быть мэтрами по части пороков» [466]; культурная рекомендация эпохи, некая виза, проставленная Парижем in usum delphini и с видами на культурное жительство, предполагала обязательный горизонт порочности, на фоне которого только и могли разыгрываться « духовные » свершения; неприличным оказывался всякий порыв, не остуженный в предварительных ритуальных процедурах скепсиса и кощунственного цинизма; путь от культурного порыва к культурному ангажементу непременно проходил через « салон », и единственной проверкой на « социальность » выступали призраки « новизны » и « моды ». Начиналась эра « кутюрье » и « топ-моделей »; мода оказывалась отныне мерой всех вещей, которые должны были быть à la mode, чтобы вообще « быть ». Оборот à la mode в кратчайшие сроки проникает во все европейские языки, как самое первое слово эсперанто; к концу XVII века на хорошем английском различаются уже the à la mode London и the à la mode France; духовное и мировоззрительное подвержены той же опасности, что платья и прически: опасности выйти из моды. История, наука, искусство, Бог, дьявол, небо и ад терпимы лишь постольку, поскольку они вдохновляют на острое словцо
или анекдот. Настоящий « оккультный » феномен; «нигде в мире, — свидетельствует лорд Честерфилд, — мода не тиранит людей так, как в Париже; ее власть там еще более неограниченна, чем власть короля»; [467]Фридрих Великий в письме к Даламберу [468]подтверждает этот фокус: «Le secret pour être approuvé en France, c’est d’être nouveau»; чтобы представить себе, что это значило «être nouveau», стоило бы полистать страницы из «Воспоминаний» Казановы, где описывается « посвящение в Париж »; одна из первых инструкций, полученных молодым провинциалом, краснеющим здесь от стыда на каждом шагу, гласила: «Боги, которые обитают здесь, хотя им не воздвигают алтарей, суть новизна и мода» [469]. В Париже можно было быть христианином [470], антихристианином, огнепоклонником, кем угодно, причем во всеуслышание; не молиться названным « женским » Богам, было равносильно исключению из культурных списков. Сегодняшним феминисткам, едва ли способным на большее, чем осквернение языка, не помешало бы поучиться у своих просветительских предшественниц, чтобы понять: как на самом деле можно феминизировать мир, во-первых, не болтая об этом на всех углах и, во-вторых, не принося этому в жертву « вечно-женственное ». Припомните описанный Бахофеном феномен « гинекократии » и попробуйте вытравить из него все признаки « трансцендентности » — вы получите готовую социологему классической эпохи в переходе от еще аристократически-мужской ментальности XVII века к уже феминизированной атмосфере XVIII-го; социальный ангажемент науки — погружение элемента индивидуальности в химический
раствор омещанивающегося духа общественности, где в качество « плюсов » фигурировали совсем недавние еще « минусы » и где « эффектами » оборачивались как раз вчерашние « дефекты »; [471]любопытнейший выверт смысла, когда группе начитанных и литературно одаренных пошляков, прошедших обряд салонной инициации, вздумалось составлять « Энциклопедию » там именно, где налицо были явные « хлестаковские » перспективы, как если бы сам Иван Александрович Хлестаков сподобился разыгрывать свой « ревизорский » сценарий не в гоголевской « интерпретации », а в бурной популяризации естественнонаучной эзотерики. «Начало XVIII века, — замечает Фаге, — эпоха, когда салоны начинают вынуждать писателей к глупостям»; [472]достаточно уже вдуматься в пеструю полисемию французского слова «maîtresse» (= « госпожа », « наставница », « любовница »), чтобы понять, чем это слово могло бы быть на деле . Угодно ли предположить, что за подоплека таилась под « совершенством разума », который в недалеком будущем доканал-таки себя в топорных разоблачениях фрейдизма! Поскребите « оду », и вы обнаружите чистейшее « capriccio »; весь научный материализм, и по сей день кичащийся своим « Константиновым даром » — монополией на истину, — обернется сущим фокусом по части « а почему бы нет »: — а почему бы, в самом деле, не окунуть естественнонаучное свободомыслие в непредсказуемые пучины « каприза »? «В Париже, — свидетельствует Руссо, попавший сюда впервые в 1742 году, — нельзя ничего добиться без женщин». Премиальная культуртема 1742 года: как угодить женщинам, чтобы способствовать прогрессу знания? Чтобы быть принятым у маркизы де Рамбуйе,
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: