Знание-сила, 2006 № 06 (948)
- Название:Знание-сила, 2006 № 06 (948)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2006
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Знание-сила, 2006 № 06 (948) краткое содержание
Знание-сила, 2006 № 06 (948) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нам сейчас нужен не новый горизонт понимания истории с заранее положенными метафизическими идеями Бога и Человека. Скорее, нужна принципиальная свобода от готовых метафизических рамок: не отказ от них, но установка на их гибкость, переменчивость, проницаемость. Лишь тогда появится возможность иной истории: не сборника исторических секретов, а поиска и пути исторической тайны. Не в смысле нехватки исторических свидетельств (их всегда не хватает), а в смысле принципиальной неисчерпаемости исторического события и принципиальной возможности иного пути.
В таком случае событие сродни художественному произведению. Мы имеем дело здесь с настоящим искусством истории, которая творит себя по законам художественной действительности, а субъект истории становится художником — творцом истории.
"История тайны" возможна тогда, когда человек, понимающий историю, проделывает опыт постижения исторического события на самом себе. Когда он и сам меняется, а не просто собирает факты и нанизывает их на иглу, как бабочек. В последнем случае от события не остается ничего, кроме гербария мертвых муляжей.

Как это выглядит применительно к русской истории? Можно ли, исходя из этого различия, приблизиться к пониманию ее смысла? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним любимые вопросы наших идеологических философов — служителей "русской идеи": что такое русская философия и что значит быть русским философом? Они имеют к нему самое непосредственное отношение.
Остроумный и глубокий философ А.М. Пятигорский отмечал, что проблема Запада и Востока в свое время была придумана теми, кто нуждался в этом придумывании. Ее просто нет, как и проблемы "русскости". А вот что, безусловно, есть, так это отдельные личности со своим опытом мышления.
Современная ситуация в философии, отмечает А.М. Пятигорский, как и сто лет назад, заключается в поиске формы философствования через отказ от принятых ранее жанров и форм. В Германии этот поиск начался с Ф.Ницше. В России — с В.С. Соловьева, В.В. Розанова, Л.И. Шестова. Добавлю: еще ранее эту работу начал П.Я. Чаадаев.
Сейчас в русской мысли — засилье "культуры": обилие разговоров о духовности, православии, призвании, миссии... Мы повязали себя обязательностью норм поведения и сознания, задаванием границ и образцов. При этом, по существу, мы и не пытаемся мыслить самостоятельно. Озираясь то на "Восток", то на "Запад", мы берем чужой образец, ставший прошлым. Мы не живем настоящим — не творим событий в собственной, настоящей жизни. В итоге философии как бы и нет.
Россия, "русский дух", "русская идея" — не предмет философии. М.К. Мамардашвили не зря говорил, что в России был один самостоятельный философ — Чаадаев. Остальные — идеологи.
Нет философов, а есть иные фигуры, иные культурные персонажи, которые отрабатывали иные культурные практики.
Спросим себя: какой национальности были Адам и Гамлет? Иисус Христос? Дон Кихот? Это — не национальные герои. Они — герои общечеловеческой культуры, носители метафизической проблематики. Это метафизические герои всемирной истории, авторы событий, которые не имеют национальных границ. Какой национальности "человек желания" у М. Фуко или "человек страдания" у С. Кьеркегора? На каком языке говорит человек с Богом? Может ли язык спасения и исцеления быть языком немецким или русским?
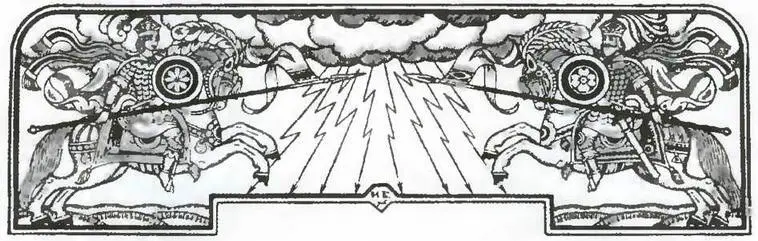
В экзистенциальной ситуации онтологического самоопределения, в которой, собственно, и рождается феномен философствования, человек говорит не на русском или французском языке. Он вообще немеет и теряет дар речи, ища подпорки для понимания своей ситуации.
Гамлет не был датчанином, а Христос не был евреем. Точнее, они были ими по первому рождению. Но мы их знаем и помним не по национальности. А вот Обломов или Евгений Онегин — сугубо русские культурные типы. Они говорят на русском, они понятны русскому читателю.
Есть, правда, открытые культурные герои. Это — пушкинский Моцарт, его же Медный всадник. Пиковая Дама, Герман: за ними стоят метафизические сюжеты, подобные сюжетам Гамлета и Дон Кихота.
В России философия с самого начала воспринималась как служанка, принятая на работу для обслуживания чьих-то интересов: для обсуждения социальных, культурных, национальных проблем. Она была орудием в идеологической борьбе. А посему и главной проблематикой ее было вопрошание о том, что есть русская идея, соборность, православие... Русский философ постоянно выяснял отношения с властью, с Богом, с оппонентом. Только не с самим собой. Как самостоятельная, самоценная область авторского мышления философия в большинстве своем не воспринималась.
Поэтому в русской философии нет ни опыта медитаций наедине с собой, как у Декарта, ни опыта построения из самой себя рефлексивной системы критической философии, как у Канта, ни опыта феноменологических редукций, как у Гуссерля.
Единственный пример авторского мышления Чаадаева до сих пор не превзойден. Он даже не создал традиции.
Философия, отмечал тот же Пятигорский, не вырастает из почвы, из культуры, будь последняя сколь угодно развита. Философия — случай, прецедент. Она случается в лице конкретного философа.
Так и с историей.

Самые плодотворные ответы на вопросы об исторических путях России могут быть, кажется, найдены не в рамках национального, экономического, культурного дискурса, а в форме личного самоопределения человека в русской культуре.
Из наших современников это, на мой взгляд, удавалось сделать историку и философу Михаилу Гефтеру.
Историю привычно обсуждать в категориях конкретных примеров, событий, войн, подвигов, великих личностей, выстраивая по их поводу конструкты и концепты. У Гефтера эмпирического материала почти нет. Нет ни теоретических построений, ни исторических героев. Есть один герой - сам Гефтер. Точнее, его мысль.
Он выстраивает фактически главный смысл истории: историю собственной мысли. Но не той mentalite, которой были заняты в школе Анналов, не структур повседневности и коллективного сознания, а сознания сугубо частного человека. Проза Гефтера — экзистенциальные записки, биография идеи. Рефлексивное путешествие по лабиринту сети культуры.
Ближе всего к этому опыту в русской традиции стоит опыт Чаадаева. (Постоянные у Гефтера отсылки к чаадаевским контекстам, явные и скрытые цитаты из него — вполне осознанный ход.) Если брать метафизические сюжеты, то это — путь Гамлета.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:










