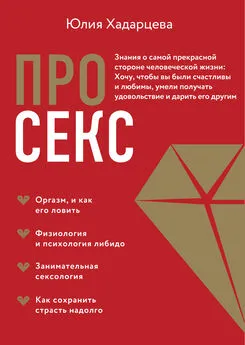Евгений Черноиваненко - Логика человеческой жизни
- Название:Логика человеческой жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Черноиваненко - Логика человеческой жизни краткое содержание
Логика человеческой жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Вполне можно, – отвечу я, – если понимать, что любовь к себе и себялюбие, эгоизм – это совершенно разные вещи. Различие между ними доходчиво объяснил Эрих Фромм в книге «Бегство от свободы», пространную цитату из которой я позволю себе привести: «Эгоизм – это не любовь к себе, а прямая её противоположность. Эгоизм – это вид жадности, и, как всякая жадность, он включает в себя ненасытность, в результате которой истинное удовлетворение в принципе недостижимо. Алчность – это бездонный, истощающий человека колодец; человек тратит себя в бесконечных стараниях удовлетворить такую потребность, которая не удовлетворяется никогда. Внимательное наблюдение показывает, что эгоист, хотя он всегда усиленно занят собой, никогда не бывает удовлетворён. Он всегда беспокоен, его постоянно гонит страх где-то чего-то недобрать, что-то упустить, чего-то лишиться; он преисполнен жгучей зависти к каждому, кому досталось больше. Если присмотреться ещё ближе, заглянуть в динамику подсознания, мы обнаружим, что человек такого типа далеко не в восторге от себя самого, что в глубине души он себя ненавидит.
Загадка этого кажущегося противоречия разрешается очень легко: эгоизм коренится именно в недостатке любви к себе. Кто себя не любит, не одобряет, тот находится в постоянной тревоге за себя. В нём нет внутренней уверенности, которая может существовать лишь на основе подлинной любви и утверждения. Он вынужден заниматься собой, жадно доставать себе всё, что есть у других. Поскольку у него нет ни уверенности, ни удовлетворённости, он должен доказывать себе, что он не хуже остальных. То же справедливо и в отношении так называемой нарциссической личности, занятой не приобретением для себя, а самолюбованием. Кажется, будто такой человек любит себя до крайности; на самом же деле он себе не нравится, и нарциссизм – как и эгоизм – это избыточная компенсация за недостаточность любви к себе».
Думаю, теперь ясно: любовь к себе и эгоизм – совершенно разные вещи. Принимая эгоизм за любовь к себе, человек на самом-то деле лишал себя возможности жить в гармонии с самим собой, жить счастливо. Вот почему мудрые люди во все времена учили настоящей любви к себе, умению уважать себя, умению дружить с собой. «Вы сами, как никто другой во Вселенной, заслуживаете своей любви и преданности», – говорил своим ученикам Гаутама Будда. Сенека в каждом письме к Луцилию дарил ему мудрое изречение, найденное в трудах других философов. В одном из писем он сообщал: «Вот что понравилось мне нынче у Гекатона: „Ты спросишь, чего я достиг? Стал самому себе другом!” Достиг он немалого, ибо теперь никогда не останется одинок». Почти через два тысячелетия Элеонора Рузвельт скажет: «Дружба с самим собой – очень важная вещь, потому что, не подружившись с собой, ты не сможешь дружить больше ни с кем».
Понять суть истинной любви к себе было тем более непросто, что в некоторые культурные эпохи господствующим настроением оказывалась именно нелюбовь к себе. Нередко считается, что такой эпохой было Средневековье, исповедовавшее идею греховности человеческой натуры, вечной борьбы в ней тела и духа. Но даже и тогда некоторым глубоко верующим людям было дано понять, что присутствие Божеского начала в человеке даёт ему полное право любить и уважать себя. Об этом говорил в своих проповедях Мейстер Экхарт. Франциск Ассизский даже к своему бренному телу обращался ласково: «брат мой, тело».
В эпоху Просвещения право человека на любовь к себе было очевидно уже для многих. У Вильяма Блейка читаем:
Бог не писал в своей скрижали,
Чтобы себя мы унижали.
Себя унизив самого,
Ты унижаешь божество.
Ведь ты и сам – частица вечности.
Молись своей же человечности.
Впрочем, пришедший на смену Просвещению романтизм, а ещё позднее – и декаданс рубежа ХIХ – ХХ веков вновь характеризуются трагическим неумением любить себя. Известный русский поэт Николай Гумилёв говорил молодой поэтессе Ирине Одоевцевой о крупнейшем поэте русского Серебряного века Александре Блоке: «Мучительно недоволен – и собой, всем, что делает, и своей любовью. Он не умеет любить любимую женщину. Ведь он сам сознаёт, что ему суждено:
Опять любить Её на небе
И изменять ей на земле.
Не умеет он и любить себя. И это ещё более трагично, чем не уметь любить вообще. Ведь первым условием счастья на Земле является самоуважение и разумная любовь к себе. Xристос сказал: „Люби ближнего, как самого себя”. Без любви к себе невозможна любовь к ближним. Романтики, как и Блок, ненавидят себя и презирают ближних, несмотря на то, что вечно горят в огне страстей», – заключает Николай Гумилёв.
В XX веке мысль о том, что в основании любой человеческой любви лежит любовь к себе, осознаётся с максимальной ясностью. С особенной остротой выразил её известный чешский художник, прозаик, драматург, поэт Йозеф Чапек (родной брат выдающегося писателя Карела Чапека) в своём эссе «Хромой путник» (1936): «Не знаю ничего, что было бы для живого существа большим проклятием, чем отвергнуть самого себя. Можно отвергнуть мир, можно отвергнуть жизнь, всё, что есть; но отказаться от собственного существа, отвергнуть самого себя в ужасе и отвращении как нечто испорченное и ядовитое, гибельное для всего, что встретится, это, думаю, последний предел, до которого может дойти человеческий дух. Это уже жизнь, которой отказано в какой бы то ни было любви». Но вот что примечательно: будучи совершенно очевидной для многих мудрых людей, мысль о необходимости по-настоящему любить себя так и не стала убеждением широких масс. И сегодня для большинства из нас любовь к себе – это просто банальный эгоизм.
Но и этого мало: мы оказались удивительно талантливыми и изобретательными в отыскании поводов и способов проявления нелюбви к себе. Этот дар воспитывали в нас с детства. Вспомните: нежно любящие нас родители не уставали, однако, обращать наше внимание на то, что другие дети лучше себя ведут, лучше учатся, больше любят своих родителей и т. п. В школе о наших несовершенствах нам без устали твердили учителя. Уже в те годы мы начали мучиться тем, что кто-то стройнее нас, умнее, пользуется большим интересом у мальчиков (девочек), лучше одевается и т. д. Сколько драм, если не трагедий, это порождало! Потом было не лучше: сравнивая себя с другими, мы видели, что кому-то уступаем в этом, а кому-то – в том, мы старались изменить себя, мы терзали себя диетами в стремлении стать такой же стройной, как N, мы во многом отказывали себе в стремлении сделать такую же карьеру, как NN. Заражённые вирусом перфекционизма мы стремились успеть всё и мучились ощущением недостижимости этого. Нас не хватало на всё и на всех, и мы страдали от этого, не любя ни более удачливых других, ни менее удачливого себя. В итоге, даже когда нам удавалось получить желаемое, мы вдруг осознавали, что заплатили слишком дорого за то, что оказалось совсем не столь нужным. И эта досада никак не усиливала нашу любовь к себе. В итоге и более удачливые и менее счастливые нередко встречались в приёмной одного психотерапевта.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
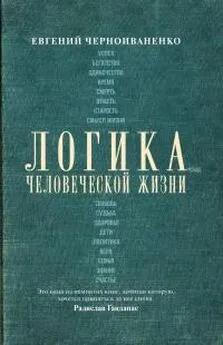

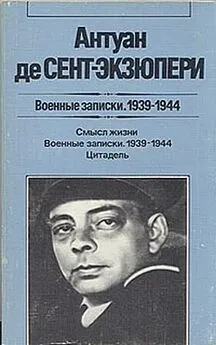
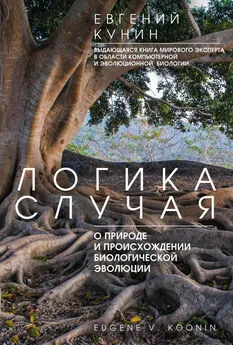
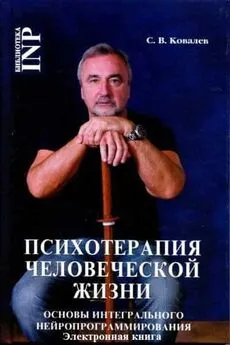
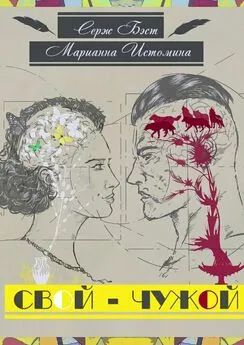
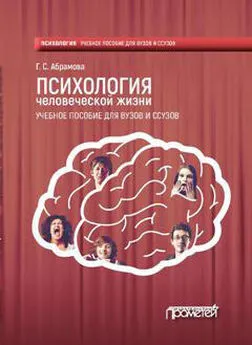
![Джоэль Курцмен - Да сгинет смерть! [Победа над старением и продление человеческой жизни]](/books/1107574/dzhoel-kurcmen-da-sginet-smert-pobeda-nad-stare.webp)