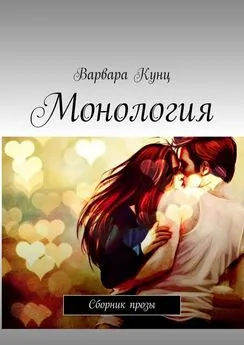Фридрих Шлейермахер - Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник]
- Название:Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9906462-8-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фридрих Шлейермахер - Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник] краткое содержание
Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
19) Все это рассуждение, надеюсь, также уясняется тем, что сказано в «Вероучении», преимущественно § 8, прилож. 2, как и с другой стороны, здесь дополняется сказанное там. И так как каждый может сопоставить оба места, то вряд ли нужно еще держать защитительную речь против подозрения – я не хотел бы употреблять слово: обвинение, – которое почерпнули из этой речи даже некоторые весьма почитаемые мною, ныне частью уже отошедшие люди, именно что для себя я предпочитаю мыслить безличную форму высшего существа; и это называли то моим атеизмом, то моим спинозизмом. Я же полагал, что отыскивать благочестие всюду и признавать его, в какой бы форме оно ни встречалось, есть истинно христианское дело; по крайней мере, я нахожу, что сам Христос повелел это своим ученикам и что Павел действовал именно так не только среди иудеев и иудейских единомышленников, но и в Афинах среди язычников. Я ведь совершенно открыто сказал, что далеко не одно и то же, лишен ли человек способности представить себе определенную форму высшего существа, или совсем его отрицает и вообще не дает возникнуть в себе религиозному чувству; и я не думал о необходимости специально протестовать против всех возможных выводов, и упустил из виду, как часто тому, кто идет прямо вперед, идущие вправо приписывают направление влево. Но кто, по крайней мере, воспримет немногие слова, высказанные в указанном месте о пантеизме, тот не припишет мне материалистического пантеизма и при некотором добром желании найдет, что человек может, с одной стороны, испытывать почти непреодолимую необходимость признать высшей ступенью благочестия представление личного Бога, именно всюду, где дело идет об истолковании себе и другим непосредственных религиозных переживаний или где сердце охвачено непосредственным общением с высшим существом, – и что тот же человек, с другой стороны, может признать существенные несовершенства в представлении высшего существа как личности, и даже наметить опасности такого представления, если оно не очищено самым тщательным образом. Об этом очищении всегда заботились самые глубокомысленные из учителей церкви; и если бы свести воедино эти суждения, направленные на устранение всего человеческого и несовершенного из личной формы Божества, то оказалось бы, что в конечном итоге можно одинаково сказать, что они отвергают личный характер Бога и что они его прилагают к Богу; оказалось бы, что ввиду трудности мыслить личность истинно бесконечной и недоступной страданию, необходимо строго различать между личным Богом и живым. Лишь этот последний признак имеет решающее значение и отделяет религиозное сознание от материалистического пантеизма и от атеистической слепой необходимости. А как кто в пределах этого канона колеблется в отношении личного характера Божества, – это надо представить его конкретизирующей фантазии и его диалектической совести; и если имеется благочестивое чувство, то обе эти силы сумеют взаимно оберечь себя. Если первая составит слишком человеческий образ, то вторая отпугнет его боязнью нежелательных выводов; если вторая захочет слишком стеснить конкретность своими отрицательными формулами, то первая уже сумеет настоять на удовлетворении своей потребности. Здесь мне было в этом отношении особенно важно обратить внимание на то, что если одна форма представления сама по себе не исключает всякого благочестия, то и другая форма сама по себе столь же мало его предполагает. Как много есть людей, в жизни которых благочестие имеет мало значения и влияния и которым все же необходимо это представление, как общее дополнение прерывающихся с обеих сторон рядов причинности! И как много людей, наоборот, обнаруживают глубочайшее благочестие, тогда как в своих суждениях о высшем существе они никогда не могут в достаточной мере развить понятие личности!
20) Это место изменено по сравнению с предыдущим изданием. Суждение, что на нравственность нельзя вообще воздействовать, казалось мне хотя и верным в связи с предшествующим, но все же, во избежание недоразумений, нуждающимся в дальнейшем уяснении, которому здесь не место; отчасти же мне казалось, что все это рассуждение надлежащим образом завершается мыслью, что свобода и нравственность терпят ущерб от указаний на божественные награды. В споре по этому вопросу, как он велся преимущественно между кантианцами и эвдемонистами, нередко упускалась из виду, что есть большое различие между обещанием божественных наград, как приманок, и теоретическим употреблением этого понятия для уразумения миропорядка. Первое есть безнравственный и прежде всего нехристианский прием, и он, конечно, никогда не применялся провозвестниками христианства, и для него нельзя найти основания в Писании. Последнее, напротив, естественно и необходимо, ибо лишь с его помощью можно усмотреть, что божественный закон распространяется на всю природу человека и что он не только не полагает раздора в ней, но совершеннейшим образом сохраняет ее единство. Но это уразумение, правда, весьма различно, смотря по тому, свободны ли правдолюбие и любознательность от всех посторонних примесей, или еще подчинены им. И тут вряд ли можно отрицать, что требования своекорыстия ищут более всего произвола в божественных наградах и что именно с этим связаны самые ограниченные представления о божественной личности, так как лишь в личности может иметь место произвол.
21) И это место, которое также направлено против ограниченных и в своей глубочайшей основе нечистых представлений, постигла судьба, сходная с судьбой сказанного о личности Божества, и оно возбудило такие же недоразумения. Ибо и здесь нашли возможным усмотреть, что я хочу умалить надежду на бессмертие и противодействовать ей, изображая ее как слабость. Но здесь было совсем не место давать объяснения по существу вопроса или излагать собственное мнение, которое я имею о нем в качестве христианина; последнее может быть найдено во второй части моего «Вероучения», и оба сочинения должны и здесь взаимно дополнять друг друга. Здесь же надо было лишь ответить на вопрос, связана ли эта надежда с религиозным направлением души столь тесно, что одно не может существовать без другого. Но как мог я ответить на это иначе, чем отрицательно, когда большинство исследователей в настоящее время признает, что древний избранный народ в более раннее время не знал этой надежды, и когда легко показать, что в состоянии религиозного возбуждения душа скорее погружена в мгновение, чем обращена на будущее? Может, однако, показаться суровым, что эта речь явственно стремится мы вести столь широко распространенную среди благороднейших людей надежду на возобновление и вечное сохранение индивидуальной жизни из низшей ступени своекорыстия, тогда как было бы легко вывести ее из любви к вещам, которые нам дороги. Однако, обозревая все формы, в которых надежда на бессмертие может являться как высшее самочувствие духа, мне все же казалось в отношении противников веры естественным и необходимым и здесь противодействовать тому, чтобы какая-либо определенная форма представления, и притом носящая явственные следы скрытого за ней подчиненного интереса, не смешивалась с самим существом дела; мне казалось необходимым подготовить такую постановку вопроса, которая была бы естественна не самосознанию, ограниченному личностью и связанному любовью к избранным объектам, а самосознание, в котором личный интерес уже очищен облагораживающим подчинением себя сознанию человечества и природы. С другой стороны, чтобы избегнуть бесконечных прений, которые чем далее бы шли, тем более уклонялись бы от главного предмета, необходимо было обратить внимание противников на то, что этот вопрос может подлинно религиозно обсуждаться лишь теми, кто уже приобрел высшую жизнь, которая одна лишь достойна победы над смертью и которую дает лишь истинное благочестие. Если здесь несколько сильно выражено отвращение к самообману низшего умонастроения, которое гордится тем, что оно может воспринимать бессмертие и руководиться вытекающими из него страхом и надеждой, то я могу оправдать это лишь тем, что здесь нет искусственной риторики, а что действительно это всегда было во мне сильным чувством; и более всего я желал бы, чтобы каждый человек, проверяя свое благочестие, видел самого себя не только так, как разумел Платон, говоря о душах, что они являются перед судьями подземного мира лишенные всех чуждых украшений, которыми они обязаны внешним условиям жизни, но чтобы он также откинул эти притязания на бесконечную продолжительность и, рассматривая самого себя, как он есть, решил бы, суть ли эти притязания нечто большее, чем титулы, которыми часто украшают себя земные владыки, – обозначения стран, которыми они никогда не владели и не будут владеть. Кто так обнажившись все же находит в себе вечную жизнь, – на что намекает конец этой речи, – с тем будет легко столковаться в этом вопросе, так как это пытается сделать мое изложение христианской веры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Фридрих Шлейермахер - Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник]](/books/1064805/fridrih-shlejermaher-rechi-o-religii-k-obrazovannym.webp)

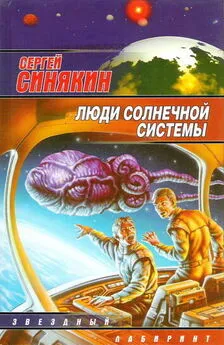
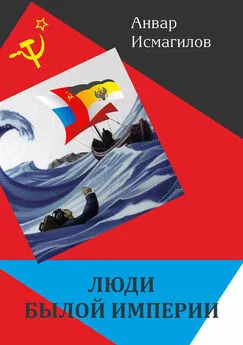
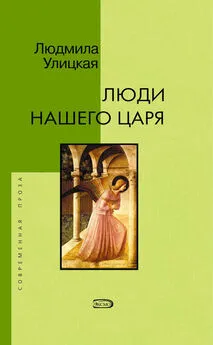
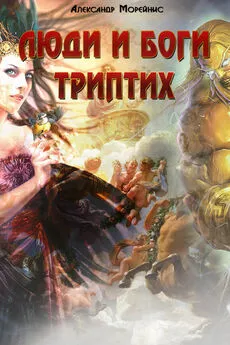
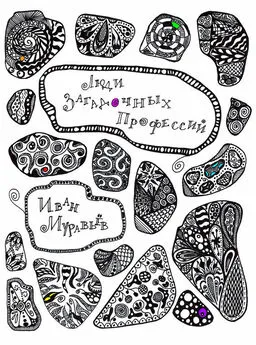
![Олег Хлебников - Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres]](/books/1059165/oleg-hlebnikov-zametki-na-biopolyah-kniga-o-zamecha.webp)