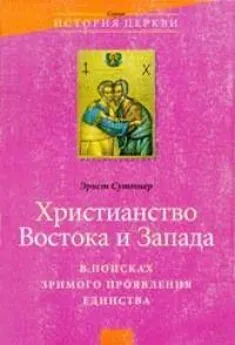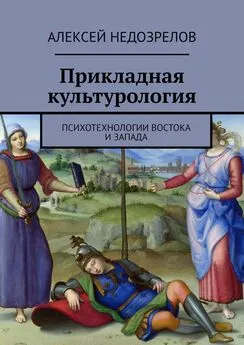Эрнст Суттнер - Христианство Востока и Запада: в поисках зримого проявления единства
- Название:Христианство Востока и Запада: в поисках зримого проявления единства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ св. АПОСТОЛА АНДРЕЯ
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-89647-065-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрнст Суттнер - Христианство Востока и Запада: в поисках зримого проявления единства краткое содержание
Эрнст Суттнер — доктор богословия, профессор патрологии и восточного богословия Венского университета, специалист в области истории и богословия Восточной церкви, член Международной смешанной богословской комиссии.
Христианство Востока и Запада: в поисках зримого проявления единства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но чем больше времени проходило с Тридентского собора, тем всё более определенно распространялось среди латинских богословов убеждение в том, что всё происходящее вне пастырской компетенции папы происходит за пределами Церкви Христовой; что без папского участия не могут быть даны истинные духовные полномочия церковным иерархам, и таинства, исполняемые епископами или священниками, не имеющими юрисдикционной связи с папой, не легитимны. Однако латиняне всё же были вынуждены, по необъяснимой великой милости Господа и согласно тридентскому учению о таинствах, признавать имеющими силу таинства, совершаемые «схизматиками и еретиками», они не отважились опровергать существование у них благодатности. Но логическим выводом из их убеждения, что таинства у схизматиков совершаются незаконно, стало сомнение в полноценности благодатности самих «схизматиков и еретиков». Впоследствии они высказывались все более явно, что за пределами Канонических границ ведомой папой Римским церковной общины нельзя обнаружить Церковь Христа. [274] За границами их церкви, считали они, находятся лишь пребывающие в заблуждении общины, которые, собственно, не могут принимать участия в таинствах церкви, и верующих этих общин следует призывать, для спасения их душ, присоединиться к единственной истинной церкви, руководимой папой. По их мнению, лишь через заключение унии с Римским престолом восточные христиане могли бы вновь вернуться в лоно церкви.
Среди католических миссионеров, действовавших в начале XVIII в. среди восточных христиан, возник спор, можно ли впредь мириться с тем, что униаты остаются в «communicatio in sacris» (совершают общие молитвы, общие богослужения и участвуют в святых таинствах. — Авт.) со схизматиками. [275] Миссионеры, которые были совершенно согласны с новыми богословскими воззрениями, решительно отвергали «communicatio in sacris» между униатами и верующими, не присоединившимися к унии. Они убеждали себя в том, что верующие, принявшие унию, в случае продолжения «communicatio in sacris» со схизматиками едва ли могли бы отказаться от мнения, что священники последних, не присоединившиеся к унии и не высказывающие послушания римскому первосвященнику, законно совершают святые таинства. Кроме того, эти миссионеры опасались, что униаты, участвующие в богослужениях «схизматиков», «примутся за старое» и могут вернуться к своим прежним, не присоединившимся к унии, приходам. Эти опасения показывают появление конкуренции из-за верующих между священниками обеих сторон.
Но далеко не все миссионеры были согласны с новыми взглядами. Многие хотели следовать тем правилам, которые считались правильными их предшественниками уже в течение 100 лет и которых они до сих пор придерживались сами. Спор между сторонниками и противниками новых богословских воззрений становился все напряженнее. Римская Конгрегация пропаганды веры, которая посылала миссионеров и ведала ими, пыталась с помощью письменных напоминаний успокоить возбужденные умы. Но полемика разгоралась. Чтобы покончить с этим чрезвычайно затруднительным для пастырского служения спором, Конгрегация опубликовала в 1729 г. декрет, который категорически запрещал всякое общение в молитве, богослужении и таинствах между католиками и некатоликами. [276] «В Риме уже не видели другого средства преодолеть эту неразбериху, кроме абсолютного запрета. Именно этими особыми обстоятельствами вызвано появление декрета в июле 1729 года», – резюмирует В. де Вриз. [277]
Обусловленное временем решение 1729 г. не было просто новшеством. «Communicatio in sacris» со «схизматиками и еретиками» и раньше уже неоднократно отвергалось. Но до 1729 г. отказ в общении не был оформлен как обязательный для всех. Раньше речь шла лишь о том, чтобы способствовать различению желательного и нежелательного, и все декларации не содержали канонических указаний, обязывающих к конкретным пастырским действиям; церковный авторитет ещё не требовал точного соблюдения инструкций.
Да и после 1729 г. установка на запрет ещё не была бесспорной. Например, в 1752 г. Конгрегации пропаганды веры было передано, что папа Бенедикт XIV (1740-1758), выступая перед Sacrum Officium, объяснял, что дело не идет не о том, что «communicatio in sacris» с еретиками уже решительно запрещено. [278] Но с 1729 г. возражения против новых установок становились исключениями, и запрет на «communicatio in sacris» в латинской церкви фактически стал действующим правом; на протяжении двух столетий это воспринималось как нечто незыблемое, основанное на экклезиологической базе, до тех пор, пока II Ватиканский собор не постановил о восточных церквах: «Поскольку эти Церкви, хотя и отделённые от нас, обладают истинными таинствами, особенно же — в силу апостольского преемства — священством и евхаристией, посредством которых они и поныне теснейшим образом с нами связаны, известное „communicatio in sacris“, при подходящих обстоятельствах и с одобрения церковной власти, не только возможно, но даже желательно». [279] В «Руководстве по применению принципов и норм экуменизма» (ст. 124), выпущенном Папским советом по содействию христианскому единству в 1993 г., разъясняется: «Поскольку у католиков и восточных христиан существуют различные традиции относительно частоты принятия причастия, исповеди перед причастием и поста перед евхаристией, католики должны заботиться о том, чтобы не дать восточным христианам повода к недоверию и не раздражать их несоблюдением восточных обычаев. Католик, который вполне имеет право получить причастие у восточных христиан, должен, по возможности, уважать восточные установления и отказаться от принятия причастия, если эта церковь принимает к причащению только своих верующих и исключает из него всех других».
Декрет 1729 г. не был догматичным установлением. Он не исходил от самого папы, а от руководства курии. Однако он разделил греческую и латинскую церкви гораздо более основательно, чем это смогли сделать буллы об отлучении 1054 г., потому что последние касались отдельных людей и были результатом действия сиюминутной реакции разгоряченных оппонентов. Но поскольку реакция была некорректной, и речь шла о высокопоставленных персонах, это было воспринято с горечью и тяжело сказалось на сознании церквей. В 1729 г. Римская курия в документе, который был основательно разработан после долгого внутрикатолического спора и многих обсуждений, стала на сторону тех, кто подвергал сомнению правомерность православных таинств и полноту церковности греческих церквей. Если в 1054 г. речь шла об отдельных персонах, с которыми поступили несправедливо, то в 1729 г., напротив, дело шло о достоинстве церквей, которое было поставлено под сомнение. Этим был не только нанесён удар по сознанию церквей, но также по повседневной пастырской жизни повсюду, где жили вместе латиняне и греки, потому что настало время, когда священнослужителям было строго запрещено оказывать помощь, если нужда в пастыре обнаруживалась «по ту сторону барьера». [280]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: