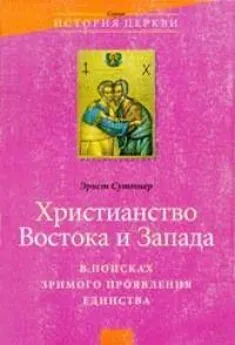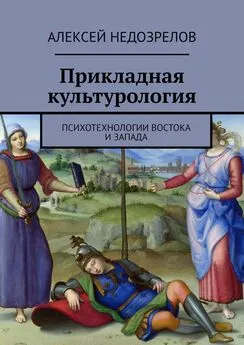Эрнст Суттнер - Христианство Востока и Запада: в поисках зримого проявления единства
- Название:Христианство Востока и Запада: в поисках зримого проявления единства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ св. АПОСТОЛА АНДРЕЯ
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-89647-065-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрнст Суттнер - Христианство Востока и Запада: в поисках зримого проявления единства краткое содержание
Эрнст Суттнер — доктор богословия, профессор патрологии и восточного богословия Венского университета, специалист в области истории и богословия Восточной церкви, член Международной смешанной богословской комиссии.
Христианство Востока и Запада: в поисках зримого проявления единства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Долгое время и Восток не выражал никакого церковного протестапротив замены на Западе выражения формулы «а patre et filio» формулой «a patre filioque», соответственно «ab utroque». Первое богословское возражение,о котором мы имеем сведения, было высказано менее всего из-за заботы об истинной вере, а послужило исходной точкой для полемики против папы Мартина I, неугодного совсем по другим причинам. И. Конгар пишет об этом: «В то время, когда Запад признал исхождение Духа от Отца и Сына, Восток был в общении с ним, хотя в Византии некоторые были этим обеспокоены. Об этом свидетельствует письмо, которое написал Максим Исповедник кипрскому священнику Маринусу (655), когда тот сообщил ему, что папа Мартин I в своем послании утверждал, что Дух исходит и от Сына. Это стало поводом для тех, которые в Риме были осуждены за монофелитство, и теперь хотели бы отомстить» [16] Y. Congar, Der Heilige Geist, 365f.
. В своем ответе Максим выступил в защиту законности западного выражения веры.
Новая ситуация начала складываться после того, как со времени III Собора в Толедо в Испании вошло в обычай во время воскресной евхаристии петь никео-константинопольский символ веры; при этом, в результате невыясненных обстоятельств, формула «филиокве» проникла в употребляющийся в литургии латинский перевод.
Слово «проникать» употреблено здесь умышленно. Потому что ненадёжность критики текстов, с которой нам пришлось столкнуться, ясно показывает, что никогда не существовало намерения официально дополнить старый символ веры. Если бы литургическому использованию «филиокве» предшествовало сознательное и определенное решение о поправке, как считали некоторые православные авторы во времена горячих споров [17] Кульминационный пункт нарастания относящихся к этой проблеме споров представляют цитируемые И. Конгаром (Der Heilige Geist, S. 450) высказывания Хомякова о нравственном братоубийстве. Ср. также Е. Chr. Suttner, Offenbarung, Gnade und Kirche bei A.S. Chomjakov, Würzburg 1967, S. 114-121.
, то это нашло бы отражение в источниках, по меньшей мере, исследования, проведенные в течение десятилетий, могли бы установить, когда это было введено в литургическую практику. Но до сих пор, несмотря на все усилия, это не удалось точно определить [18] О соответствующих безрезультатных изысканиях ср. Suttner, 1st das filioque kirchentrennend? в Theol. — prakt. Quartalschrift 137 (1989) 249-258.
. Нет никаких признаков того, что в Испании намеревались отступить от утвержденного в Константинополе символа веры, когда в литургии укоренилось использование формулы «филиокве». Пели старую и хорошо знакомую формулировку веры в Троицу, и когда она стала общеупотребительной, вначале никто ни в Испании, ни в других западных церквах не подозревал, что она находится в противоречии с решениями вселенских соборов. Больше думали о том, чтобы надежно сохранять символ веры соборов, поскольку формула была близка формулировке отцов. Западные отцы церкви издавна проповедовали учение церкви с этой формулой, и она уже употреблялась, прежде чем была включена в символ веры.
Только в эпоху Карла Великого, когда по политическим причинам (из-за разрушения имперского единства вследствие коронации императоров на Востоке и на Западе, каждый из которых считал себя единственно законным) началось резкое противостояние друг другу и соперничающие стороны охотно подхватывали любые поводы, предлагавшиеся для полемики, в конце концов, дело дошло и до разногласий из-за «филиокве» в символе.
Соборы эпохи Фотия
В эпоху иконоборчества, которое возникло в 20-х гг. VIII в. и было окончательно преодолено лишь в 843 г., то есть более 100 лет Церковь в Константинополе находилась в состоянии глубокого внутреннего раскола; большую часть этого периода она была и в расколе с Римом. Едва преодолев иконоборчество, Константинопольская церковь пережила еще два спора с Церковью в Риме, и в ней самой существовали две не доверявшие друг другу партии. Во время иконоборческих неурядиц создалась партия «зелотов» («ревнителей»). Она имела особое влияние среди монахов, выступала в защиту почитания икон и после победы над иконоборцами следила за тем, чтобы все церковные правила исполнялись со всей точностью. Ей противостояла «умеренная» партия, которая держалась более либеральной позиции [19] H.-G. Beck в Н. Jedin (Hg.), Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. III/l, Freiburg 1966, S. 198 f.; его же, Geschichte der orthodoxen Kirche im byzantinischen Reich, Gottingen 1980, S. 96 ff.
.
Один из двух споров с Римом касался миссионерской деятельности среди славянских народов. Великоморавский князь Ростислав решил христианизировать свое государство. Миссионеры могли прибыть от латинян или от греков. Великоморавское княжество граничило с франками; с Византийской империей оно не имело общей границы, между ними лежало Болгарское государство. Можно было ожидать, что миссионеры станут проводниками влияния своей страны, и Ростислав счел более целесообразным просить о присылке миссионеров не ближнего франкского короля, а дальнего византийского императора. В 862 г. Кирилл и Мефодий прибыли в Моравию. Немного позже и болгарский правитель Борис тоже захотел христианизировать свое государство. Для него обстоятельства складывались иначе. Он вёл переговоры с франкским императором Людовиком Немецким. Если взять в расчет, как близок путь от болгарской границы до Константинополя, то можно понять, как испугался византийский самодержец, когда узнал, что к болгарам могли бы прийти миссионеры от франков. Он приказал подтянуть свое войско и флот, чтобы «убедить» Бориса в том, что «правильнее» было бы принять византийских миссионеров. Борис был вынужден разрешить византийцам крестить себя в 864 г. [20] О миссионерстве в Моравии и Болгарии см. F. Grivec, Konstantin und Method, Lehrer der Slawen, Wiesbaden 1960; M. Lacko, Undicesimo Centenario della Missione dei SS. Cirillo e Metodio, в Oriente Cristiano 3 (1963) 31-47; F. Dvornik, Byzantine Mission Among the Slaves, New Brunswich, 1970; Chr. Hannick Die byz. Missionen, в К. Schaferdiek (Hg.), Die Kirchen des früheren Mittelalters, München 1978; H.-D. Döpmann, Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen, Band 1/8, Leipzig 1990; «Die Christianisierung der Slawen» â Suttner, Kirche und Nationen, Wurzburg 1997, S. 9-27.
Присланные из Византии к болгарам миссионеры вели богослужение на государственном языке Византийской империи — на греческом. [21] Лишь тогда, когда ученики Кирилла и Мефодия были изгнаны из Моравии и приняты царем Борисом, в Болгарии стал церковным языком славянский: ср. G. Eldarov, Metodio e Boris, в Е. Faruugia (Hg.), Christianity among the Slavs (= OCA 231), Rom 1988, S. 211-236; Suttner, Kirche und Nationen, Wurzburg 1997, S. 28-37.
Император и патриарх из Константинополя пытались возможно теснее связать болгар с империей. Чтобы предотвратить иностранное влияние, царь Борис хотел как можно скорее добиться автономии для церкви своего государства. Это меньше всего устраивало Константинополь. Тогда Борис обратился к Риму. Он надеялся, что легче получить от римского епископа то, чего не хотел предоставить Константинопольский патриарх.
Интервал:
Закладка: