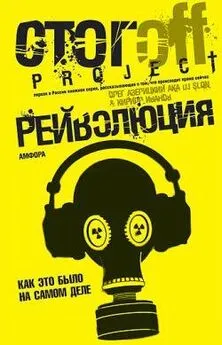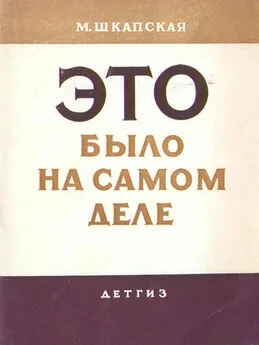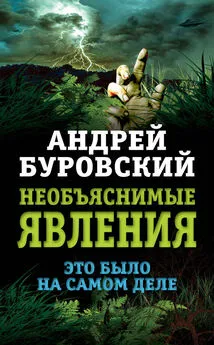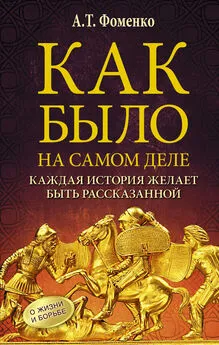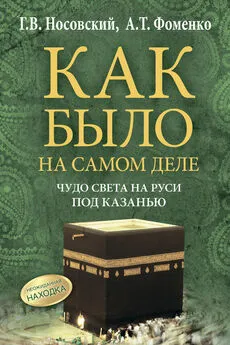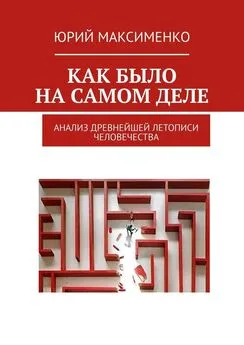Андрей Десницкий - Библия: Что было «на самом деле»?
- Название:Библия: Что было «на самом деле»?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Альпина
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:9785001396031
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Десницкий - Библия: Что было «на самом деле»? краткое содержание
Библия: Что было «на самом деле»? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Более того, если вдруг окажется, что Соломон скорее собирательный образ идеального царя (к этому предположению нам еще предстоит вернуться в 5-й главе нашей книги), от этого изменится немногое. Он – идеальный рассказчик, мудрый и верный Богу человек на троне, а Соломонова традиция (как гомеровская или пифагорейская, если проводить греческие параллели) явно развивалась после его жизни, она была живой, она редактировала и расширяла этот текст, оглядываясь на образ мудреца и праведника на израильском престоле – царя Соломона.
2.4. Многослойный Иов
Книгу Иова, как можно было понять по реплике Ревнителя, традиционно приписывают Моисею по простому принципу: Иов – история очень древняя, в ней не упомянуты ни Израиль, ни иудеи (единственная такая книга в ВЗ), так что ее должен был написать еще до их появления первый великий пророк, который жил после описанных в ней событий. А это явно Моисей.
Однако Скептик считал, что эту книгу по языку следует отнести к самым поздним книгам ВЗ. Начнем с внешних признаков: в ней есть следы влияния арамейского, а возможно, даже персидского языка. Примеров не так уж много, зато они яркие: например, слово מַעֲבָד ма‘бад «работа» (Иов 34:25) или выражение אַחֲרֵי־זֹאת ахаре-зот «после этого» (Иов 42:16). Скажем, встретить их в книге, написанной Моисеем, настолько же странно, как наткнуться на французские слова и выражения где-нибудь в «Повести временных лет» – они бы явно свидетельствовали, что эта книга написана не раньше XVIII в., когда русские писатели стали массово знакомиться с французской литературой. Точно так же и евреи вряд ли познакомились с персидским языком прежде возникновения великой Персидской империи, в которой арамейский был языком межнационального общения.
Ревнитель, правда, мог бы возразить, что это просто иноземный акцент, ведь Иов жил в земле Уц, расположенной в Эдоме (хотя есть и другие версии). Да мало ли где употребляются арамеизмы, этот язык не моложе древнееврейского! В Притчах, к примеру, сын называется по-арамейски בַּר бар вместо еврейского בֵּן бен (Притч. 31:2). Впрочем, как раз это арамейское слово в начале 31-й главы Притчей может указывать на позднее происхождение данной конкретной главы и вложено в уста матери загадочного Лемуэла, неизраильтянина, там оно как раз может быть цитатой из какого-нибудь арамейскоязычного мудреца с сохранением соответствующего колорита. То есть употребление отдельных слов может подсказывать, что книга написана после Вавилонского плена, но не может этого однозначно доказать.
Правда, в книге есть и некоторые архаичные черты, например местоименный суффикс 3-го лица -мо (Притч. 27:23): עָלֵימוֹ ‘алемо «на него», и тут же рядом находим форму כַפֵּימוֹ каппемо «руки его». Но это может быть свойством поэтического языка, который по определению архаичен. К тому же в этом стихе получается хорошее созвучие со словом מִמְּקֹמוֹ миммекомо «с места его», где последний согласный м относится уже к корню. Но подобные архаичные формы вроде «отче» или «старче» встречаются в русском языке и по сей день (кстати, местоимение «сей» – тоже архаизм).
Но главное лингвистическое свидетельство не в отдельных словах, а в грамматике, прежде всего в использовании глагольных форм. Употребить отдельное слово или выражение на чужом языке может всякий автор, но последовательные и систематические изменения в грамматике свидетельствуют о более позднем времени написания. В Книге Иова мы постоянно встречаем последовательность глагольных форм yiqtol weyiqtol вместо классической yiqtol weqatal (например, Иов 3:13). Объяснять здесь подробно, что это такое, вряд ли стоит, просто пусть читатель, незнакомый с древнееврейской грамматикой, поверит, что это явный признак послебиблейского иврита.
Но есть и другие причины считать, что эта книга была написана вовсе не Моисеем. Его имя, по сути, связано с одним, но глобальным событием: рождением народа Израиля и заключением Завета. Как уже было сказано, в Книге Иова даже не упомянуты ни Израиль, ни Завет, да и вся эта история не нуждается в таком упоминании. Если бы не существовало такого народа и такого Завета, в судьбе Иова ничего бы не изменилось. Именно поэтому крайне трудно представить, что Моисей мог написать этот текст.
Проблематика книги совершенно иная, чем в Пятикнижии. Там мы видим народ, который ищет, как жить перед Богом благочестиво, чтобы все вышло хорошо. Здесь – человек, который заведомо благочестив, практически безгрешен, при этом все выходит очень плохо и он не может понять почему. Это антитезис едва ли не ко всему, что сказано в Пятикнижии. И возникает ощущение, что автор и читатели либо не знали ничего о Законе и Израиле (что крайне маловероятно), либо что с вопросом «как Израилю жить по Закону» они в общем и целом разобрались и пытаются понять что-то другое. Книга Иова – про нагого, страдающего, одинокого человека перед Богом, с которым он страстно желает поспорить, как бы оставляя в стороне все вопросы практического благочестия.
Так кто же написал эту книгу? Мы не имеем об этом ни малейшего представления, и подсказок взять неоткуда. Но мы можем представить себе, как она писалась, тут поможет текст самой книги, особенно если мы вспомним те выводы, которые сделали о Книге Притчей. Если мы посмотрим на то, как устроена Книга Иова, то увидим в ней несколько слоев. Причем каждый следующий слой совершенно самостоятелен – если бы его не было, никто бы не заметил его отсутствия.
Самый первый слой – это прозаическая история о праведнике, который остался верным среди испытаний и был награжден за это Богом. Собственно, именно эта версия рассказана в Коране, где Иов носит арабское имя Айюб, а в библейской книге она занимает главы 1–2 и 42-ю.
Но самое для нас интересное в книге – это, конечно, диалоги Иова с тремя его друзьями, которые написаны совсем иначе; это яркие поэтические главы с 3-й по 31-ю, за вычетом 28-й, где неожиданно появляется гимн Премудрости, очень похожий на Книгу Притчей. Он формально вставлен в середину речи Иова, но к аргументации Иова совершенно никакого отношения не имеет, да и вообще после него Иов продолжает свои речи, словно гимна нет. Этот гимн как будто партия хора в античной трагедии: вот Иов, протагонист, выходит, беседует со своими оппонентами, а на заднем плане хор поет гимн Премудрости, который напрямую не связан с действием, но скорее служит фоном.
А в главах 32–37 абсолютно ниоткуда появляется новый персонаж – Элигу, которого там раньше не было, и ничего не сказано о том, кто он и в какой момент присоединился к четырем основным героям. Элигу произносит длинную речь, на которую никто не отвечает, которую никто даже не замечает. Сразу возникает ощущение, что эта речь добавлена позднее как комментарий на все предшествующее – потому герои и не заметили комментатора. Далее, в гла-вах 38–41, Господь, не обращая никакого внимания на Элигу, отвечает Иову, упоминая в самом конце речи вскользь и его друзей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: