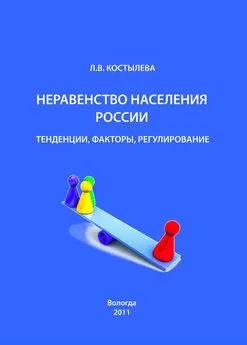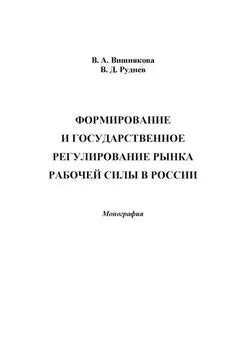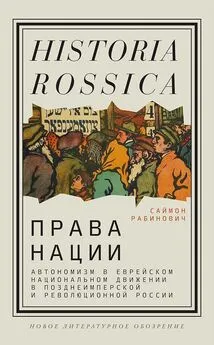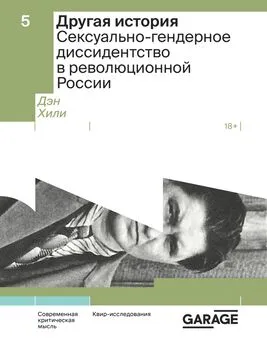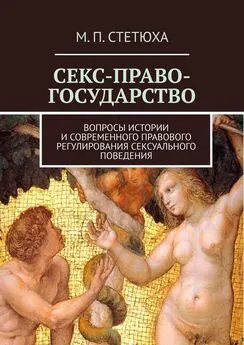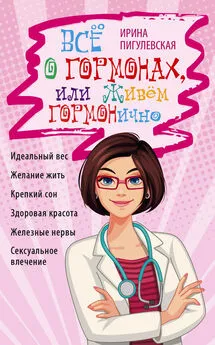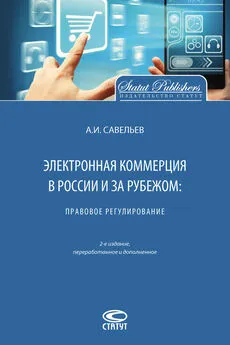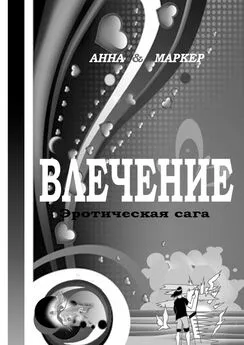Дан Хили - Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства
- Название:Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2008
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дан Хили - Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства краткое содержание
Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Заключение
Синкретизм, характерный для конструкции сталинской системы гендерных и семейных отношений, сказался самым непосредственным образом на советских конструкциях однополой любви, оформившихся в 1930-е годы. Сумбур в подходе к сексуальногендерному диссидентству в эпоху царской империи и в период нэпа сочетался с лозунгами и крайностями первой пятилетки. Сталинизм возродил и укрепил исконное представление о различиях между мужской и женской формами гомосексуальности. Гендерно-нейтральный стиль, типичный для описания половых преступлений в первом большевистском Уголовном кодексе 1922 года, сохранившийся и в правовых документах советских республик, был отвергнут в новом антимужеложном законе 1933—1934 годов. Это было вопиющим отказом от ключевого принципа сексуальной революции. Тем не менее такой разворот имел прецеденты в законодательстве времен нэпа за пределами европейской части Советского государства, а именно — в окраинных республиках, где «пережитки родового быта», включая однополые отношения, были наказуемы. В Советской России преследование однополой преступности в церковной среде представляло еще один большевистский проект, когда «пережитки» прошлого наносились на социальную карту как пороки, порожденные буржуазным классом, но не служащие историческим фоном «отсталого» общества. Для передового населения — рабочих и крестьян — передовой «нации» (России и ее «цивилизованных» партнеров по социализму) уже было припасено объяснение, что отношение революционного правосудия к половым преступлениям отличается секуляризацией (т. е. освобождением от церковного влияния), медикализацией и гендерно неакцентирован-ной модернити.
Внимание уделялось исключительно мужской гомосексуальности, что объясняется ведущей ролью, которая в мировоззрении русских марксистов привычно отводилась мужчине. В то время как пролетарии — как мужчины, так и женщины — были номинально равны, партийные активисты, начиная с революции и до становления сталинской системы, боялись политически несознательных женщин. Вероятно, из-за этого революционная иконография представляла большевистское движение абсолютно маскулинным 83. Отсюда же исходила и угроза — «педерасты». Они развращали «совершенно здоровую молодежь, красноармейцев, краснофлотцев и отдельных вузовцев», отсасывали соки у советского мужского авангарда, тем самым лишая его сил исполнить историческую миссию, подобно тому как во время экономического и социального кризиса 1933 года «двурушники» и внутрипартийные «перерожденцы» пытались разрушить этот передовой отряд. И те и другие элементы необходимо было выкорчевывать из руководящих институтов режима, чтобы сбить «психическую заразу» и предотвратить новые случаи «педерастии» или политической нелояльности. Те же намерения питали социальную чистку в главных городах Страны Советов. Предполагалось, что в конце концов авангардный класс, гендер и город преобразятся, изгнав «буржуазных дегенератов», затаившихся в тайных притонах и салонах, жизнь обновится и остатки прежних классов канут в Лету.
Женщинам в этой драме отводилась сугубо вспомогательная роль, однако в пределах класса она была сложной и противоречивой. Как и крестьян из «заброшенных» регионов, колхозников и пролетариев, в 1930-е годы женщин всё чаще призывали включаться в общественную жизнь и идти работать по найму. В производственной сфере эмансипация женщин поощрялась, они были вынуждены освобождаться от патриархально настроенных отцов и мужей, которые не вправе были препятствовать продвижению по службе. Женщины всё больше становились похожими на мужчин, что в некоторых случаях расценивалось как «маскулинизация». Тем временем движение «общественниц» пропагандировало фемининный и вполне приземленный идеал для новой элиты, вкушающей сладкие плоды социализма. Две противоположные тенденции сосуществовали в непростом моральном равновесии, героизм личного самосовершенствования и достижений в труде, с одной стороны, и преисполненная долга забота о привнесении культуры во все сферы жизни — с другой. Культ материнства, вероятно, был вызван к жизни, чтобы устранить крайности «маскулинизации», необходимой женщинам из рабочего класса на фабриках или на аэродроме. Опыт материнства объединял «общественниц» в их деликатной роли благодетельниц и женщин, работающих у станка 84.
«Гротескный гибрид» 85сталинской семейной политики породил уродливую форму принудительной гетеросексуальности, которая сводилась в основном к призывам о повышении рождаемости. Гетеросексуальность, по И.В. Сталину, строилась на многочисленных страхах и импульсах. Это был некий нервный сплав, достойный честолюбивой «культуры» выскочек, которую желала обрести новая советская элита 86. Субкультура мужской гомосексуальности угрожала чистоте здорового советского юноши и таила в себе возможности для его совращения. Выродившиеся остатки побежденной буржуазии, аристократии и духовенства — пережитки российского прошлого — попрятались по салонам и притонам, культивируя мужскую проституцию и практику «профессионального мужеложства». «Психическое заражение» угрожало еще больше подорвать и без того падавшую рождаемость, как раз накануне маячившей на горизонте войны. Сексуально неустойчивые мужчины нуждались в трудотерапии, которая научила бы их «нормальному» образу жизни. Женщинам такая перспектива не грозила, поскольку сколь-либо заметной сети «гомосексуалисток» не наблюдалось. Предполагалось, что редко встречавшихся, аномальных «маскулинизированных» женщин, преследовавших «нормальных» молоденьких девушек, могли распознать врачи и при необходимости подвергнуть принудительной изоляции. Поэтому необходимости пересматривать закон не было. Между тем «нормальным» молодым девушкам важно было напомнить слова В.И. Ленина о том, что их свобода любить не является свободой «от серьезного в любви, от деторождения». Биология девушки естественным образом подтверждает ее статус как «нормальный», а культ материнства должен напоминать ей о цели ее сексуальности.
Часть третья
ГОМОСЕКСУАЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ И СУЩЕСТВУЮЩИЙ СОЦИАЛИЗМ
Глава 8
«ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ»
Гомосексуальность в сталинских судах
СТАНОВИТСЯ АНТИОБЩЕСТВЕННЫМ ЯВЛЕНИЕМ
С тех пор как заместитель председателя ОПТУ Г.Г. Ягода обратил внимание на 130 мужчин, арестованных в конце лета 1933 года во время рейдов на «педерастов» в Москве и Ленинграде, поток жертв, преследуемых системой и подвергавшихся незаконным наказаниям, пополнился новыми социальное аномальными» лицами. Число влившихся в этот поток в качестве осужденных «педерастов» остается неизвестным из-за недоступности архивов 1. И всё же с помощью новых архивных материалов можно попытаться изучить процессы, проводившиеся над вторым потоком мужчин — «педерастов» и «гомосексуалистов». Природу и значение судов над этими людьми в сталинскую эпоху можно постичь путем обращения к раздробленным, фрагментарным источникам, имеющимся в нашем распоряжении. Главным образом это вынесенные приговоры и прошения об апелляции. Как бы ни были малочисленны эти дела, они позволяют предположить, что советское правосудие помогало выстраивать конструкцию сталинистской гетеросексуальности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: