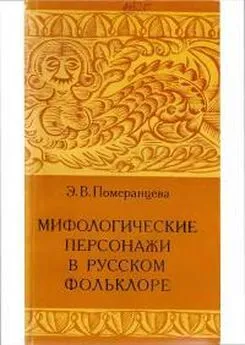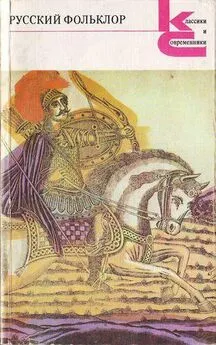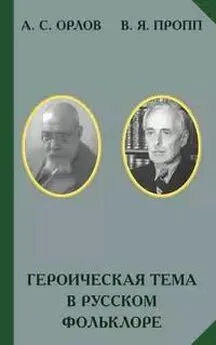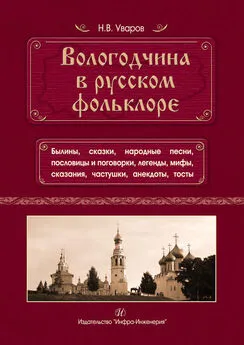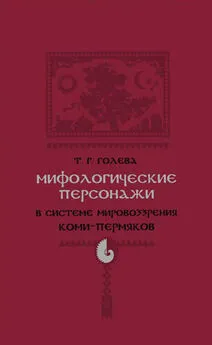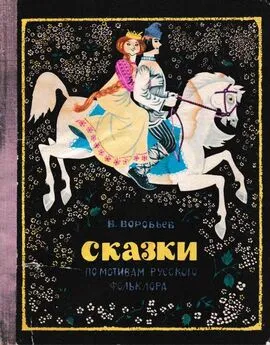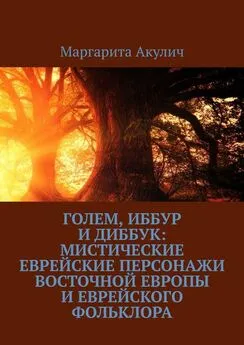Эрна Померанцева - Мифологические персонажи в русском фольклоре
- Название:Мифологические персонажи в русском фольклоре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1975
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрна Померанцева - Мифологические персонажи в русском фольклоре краткое содержание
Мифологические персонажи в русском фольклоре - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Информатор из Олонецкой губернии, сообщив рассказ о лешегоне Григории, у которого леший отнял собаку, а взамен дал ему девицу, оказавшуюся дочерью московского купца, подчеркивал, что все мужики считали это правдой и решительно отвергли его сомнения 43 43 ГМЭ, ф. Т, Олонецкая губ., корр. П. Бурков, отд. Ж, п. 200, лл. 1—2.
.
Кроме быличек и бывальщин бытуют и такие рассказы о лешем, которые совершенно утеряли установку на достоверность, т. е. сказки.
Лешин только изредка фигурирует в русских сказках. Такова, например, сказка о солдате, летавшем на лешем в Питер и предъявившем в качестве доказательства, что он там действительно побывал, французскую булку 44 44 7? * f/. £. Ончуков . Северные сказки, стр. 591, № 301.
. В этой сказке образ лешего явно случаен, он заменил обычного для таких чудесных путешествий чёрта. Мотивировка же убедительности здесь чисто условная, сказочная. Некоторые из этих повествований являются вариантами широко известных сказочных сюжетов, и образ лешего в них отнюдь не органичен. Такова сказка о споре с лешим из-за репы, в частности эпизод, когда поп едет верхом на попадье и пугает этим лешего 45 45 Там же, стр. 543, № 261.
. Такова и сказка на распространенный в мировом фольклоре сюжет о встрече с лешим дровосека, который сумел защемить лохматую с когтями руку лешего в бревне 46 46 Сказка записана в с. Купреево Гусь-Хрустальиого р-па Владимирской обл. от В. Н. Груздевой. Архив Института этнографии АН СССР (далее АИЭ), Материалы Владимирской экспедиции, 1967.
. Одна из этих историй, а именно о лешем и поповне, включена А. Н. Афанасьевым, ощутившим ее сказочность, в его сборник «Народные русские
■ I-*» іічіі» ' J. Рассказы эти, утратившие или с само-in іыч.іла не имевшие установки на достоверность, нычпдит за пределы несказочной прозы, живут в |и ін рі уаре сказочников и воспринимаются их ау-шіп|»ііей как занимательные сказки. Вопрос о сте~ іі* мн их достоверности не возникает ни у рассказ-mint, ни у слушателей.
I .і ггствешіо, что жанровые границы не являют-*і чгм-то незыблемым. В настоящее время все ча~ им іч.шальщины рассказываются как сказки, все ммм слушатели выражают сомнения, не сказка ли
• и» ()днако возможно и обратное: рассказав ти~ мичиуіо сказку, информатор ссылается на авто-....... лица, от которого слышал этот рассказ, и
«мі чает: «Это не сказка, а быль».
И гак, леший является персонажем разных жан-Iнш русской устной прозы — быличек, бывальщин и 11%.1 іок. Относятся к разным жанрам и рассказы м м чн.ічихах или лисовихах, которые ничего принципиально нового в интересующий нас вопрос о « >иі|нжых особенностях рассказов о лешем не вно^
• 11 ! )то рассказы о том, как лешачиха пугает воем н Аѵпками женщин в лесу, как она уводит детей или парией, пасет по уговору с пастухом коров, на-»|ппіідл(*т чудесными дарами чем-либо угодивших
и аіпдгй. Лешачиха рисуется то как страшное бе-»ііі»і».і чюе существо с огромными грудями, то как и .и іі и девушка, идущая по лесу, то как женщина »» *іі лом сарафане, или і«в печатном сарафане с •и і і ридпнными нарукавниками, ростом с лесом ••(•«пн іііі» 76. В одном из рассказов она живет с
< > ііігм — лешим Иваном, который приезжает под им (им генерала, в черной шубе с красным ііри.ікпм 77. И здесь, так же как в рассказах
о и шсм, мы видим на пути движения жанра •и былички к сказке последовательное усиление мм рмиоморфных черт образа и все большую быто-ни «1111110 всего рассказа. Таким образом, с пред- ставлейиями о лешем и лешачихе связаны не toAb-ко разные жанры, но и разные виды устной прозы. Рассказы эти близки друг другу по основному персонажу, по связи с народными верованиями, но вместе с тем не совпадают по своей функции и вследствие этого и по своим жанровым признакам. Естественно, что в результате общности содержания эти произведения находятся в постоянном взаимодействии и легко переходят из одной жанровой категории в другую,
Былички и бывальщины, как уже отмечалось, несут в себе предпосылки для циклизации. Это характерно, в частности, и для рассказов о лешем. Стоило заговорить о нем, рассказать один какой-нибудь случай, как сразу же в ответ сообщались аналогичные рассказы. Так, в с. Атушеве П. Вересов в 1897 г. записал 12 рассказов о лесовике: о том, как он является в разных видах,-— стариком в белом балахоне и лаптях, знакомым, соседом, в обыкновенной одежде, даже в образе предводителя дворянства,— о мальчике, которого два с половиной дня водил леший, о посредничестве колдунов, о женщине, которая, проклятая мужем, два года жила у лешего, о восьмилетней девочке, которую неделю водил леший, и т. д.
Тут и элементарные былички и сложные рассказы о том, как мужик помог жене лешего разродиться, за что был им помилован, о том, как леший выдал за деревенского парня дочь попа, которую много лет назад похитил, о том, как в ночь под воздвиженье лешие играют и проигрывают зверей и домашний скот («На местах сборища луг был весь выбит и исцарапан когтями зверей, и один из леших оставил берестяной лапоть, дли-
)7Й
Интересно, что все рассказы точно датированы, все они связаны с определенными людьми и местами, указаны рассказчики, т. е. независимо от сюжета они сообщаются как информация, как свидетельское показание.
Как неоднократно указывалось исследователями,•......ігелыіые изменения социальных и культурна* предпосылок влекут за собой исчезновение
■ і‘*і»ых повествовательных форм и создание но-ммч. Судьба устной прозы о лешем может слу-•ни. иллюстрацией этого положения.
П настоящее время былички и бывальщины о и» м іііпіо изменили свою функцию и превратились и «пугливые рассказы, пародирующие подлинные іі(ііг|»мые мемораты и фабулаты. Очень редко |і«нііч.ічы о лешем носят характер суеверного ме-miji.ii.i, т. е. формы, которая в прошлом была ііі«і и*»падающей. Уже в конце XIX в. информаторы подчеркивали, что рассказывают о прошлом и ли д.икс о далеком прошлом.
И Вологодской губернии, по свидетельству од- 111* 1,* ім корреспондентов Тенишева, крестьяне го-»»п(іилп: «Было время, годов 20 или 30 тому на-
■ м иг проходило ни одной ночи, чтобы не поха-Мі шпги леший. Нельзя было выйти вечером или ("Ши утром в лес на охоту: то поет песни, то лает
• міммііі, то кричит птицей и перелещается всяки->іи минерами, а то еще заведет куда-нибудь, что н н. иыидешь... А ныне совсем его даже не слы-
ііі., «тли и случится, то совсем редко и то перед ипмім пибудь несчастьем, а больше перед покойии-
79
утопленником или удавленииком».
I і« |>с*іи‘лась ныне эта погань,— заметил иифор~ .■ни)) щ Пензенской губернии,— вот деды рас-
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: