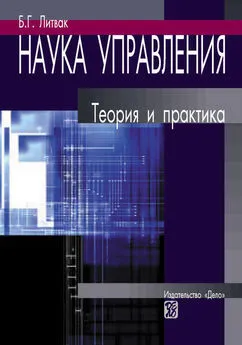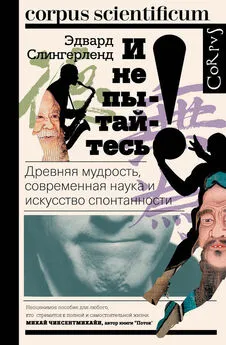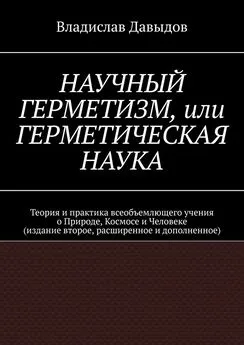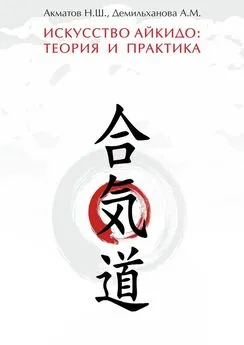Виктор Попов - Современная дипломатия. Теория и практика. Дипломатия - наука и искусство
- Название:Современная дипломатия. Теория и практика. Дипломатия - наука и искусство
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Международные отношения
- Год:2004
- ISBN:5-7133-1158-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Попов - Современная дипломатия. Теория и практика. Дипломатия - наука и искусство краткое содержание
Все это, а также непринужденная и живая манера изложения делают книгу чрезвычайно интересной не только для студентов, изучающих проблемы внешней политики и дипломатии, специалистов в этой области, но и для широкого круга читателей.
Современная дипломатия. Теория и практика. Дипломатия - наука и искусство - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На что же обращает внимание Паскаль, характеризуя беседы? Прежде всего на «искусство нравиться и искусство доказывать» 494 494 Там же.
. Строгие правила существуют только для последнего, но «искусство нравиться - более сложно, тонко и полезно». Одной из составных частей этого искусства является ораторский талант. «Красноречие, -пишет Б. Паскаль, - есть искусство так говорить о вещах, чтобы, во-первых, те, к кому обращаются, без труда и с удовольствием могли все понять, во-вторых, чтобы они чувствовали себя заинтересованными, чтобы самолюбие располагало их к размышлению об этих вещах... Нужно поставить себя на место тех, кто должен нас слушать, и сделать над своим собственным сердцем опыт убеждения в ту сторону, в которую хочет убедить оратор»'.
И, продолжая эту мысль, он добавляет: «Говорите нам приятнее вещи, и мы будем вас слушать, - говорили евреи Моисею» 495 495 Петров В.П. Указ. соч. - С. 154.
496 496 Там же.
.
Особое внимание обращалось в этих салонных беседах на остроумие. «Академией галантных остроумцев» называли тогда салоны. Остроумие означало «элегантность в сфере мысли». «Из слова, -пишет историк французской литературы, - они (участники бесед в салонах. - В.П.) сделали искусство - фреску, миниатюру, барельеф, вышивку, симфонию, оперу» 497 497 Там же. - С. 180.
.
Участника бесед в салонах тогда называли «порядочным человеком». Вот какими качествами должен обладать участник бесед в салонах (так же, как и дипломат того времени): «Он храбр и жизнерадостен, но вместе с тем мягок и уступчив, в любом деле избегал излишней аффектации и пристрастия, везде проявлял тонкие, возвышенные чувства и, главное, во всем знал меру: уравновешен, спокоен, рассудителен. Эти качества «порядочного человека», равно как и его ум, беседа, тело, должны очаровывать, быть внешне зримыми, заметными. Ему необходимо уметь подать, представить себя, но делать это без нажима, легко и непринужденно, создавая иллюзию полной естественности» 498 498 Там же. - С. 158.
.
Под каждым словом Паскаля могли бы подписаться и современные дипломаты.
После этой краткой исторической справки о «дипломатических беседах» перейдем к вопросам и беседам сегодняшнего дня. Один из основных вопросов — чем отличается беседа дипломатов от деловых бесед других профессий. Пожалуй, водораздел между ними лежит прежде всего в отношении к спору. Бизнесмены, например, могут спорить до ожесточения, торговаться до победы - продать по выгодной для себя цене или вообще перестать беседовать. Правило дипломатической беседы (если, конечно, ее ведут профессионалы и не с «позиции силы») — без нужды не спорить. Дипломат предпочтет спокойно, убедительно доказывать свою правоту, а не неправоту собеседника. Дипломат постарается воздержаться от критики собеседника, не будет без нужды ставить своего партнера в положение обороняющейся стороны. Дипломат понимает, что любая его бее-тактность может испортить ваши доверительные, уважительные отношения с вашим контрагентом (бизнесмен найдет для своей сделки другую фирму, дипломат вынужден и в будущем иметь дело с тем же партнером).
Когда вы начинаете спорить, горячитесь, чувство ответственности за высказывание ослабляется, вы - дипломат, за вашей спиной стоит государство, ваши слова - это мнение вашего правительства. С вами считаются, пока вы представляете свое правительство, но и нанесенная вами обида оскорбительна вдвойне, так как в определенной степени нанесена от имени правительства иностранного государства. Если можно, если это прямо не предусмотрено вашими инструкциями, лучше уклониться от спора. Ответьте оппоненту: «Ваша точка зрения любопытна, но, к сожалению, я не могу с ней согласиться» или «Я не могу вполне с ней согласиться», «Я уважаю ваше право не согласиться со мной, но я надеюсь, что и Вы не откажете мне в праве иметь друтую точку зрения» или просто «Мое правительство придерживается другой точки зрения». Вместо слов «Вы неправы» дипломат предпочтет сказать собеседнику «есть и другая точка зрения, и она имеет право на существование» или «не все согласны с такой точкой зрения» и спокойно, по-деловому изложить вашу позицию. Позитивное изложение ваших взглядов будет ничуть не менее убедительным, чем критика позиции собеседника, но менее обидной для него, будет более дипломатичным, и всегда, когда вы намереваетесь раскритиковать собеседника, помните, что ваша цель не ссориться с партнером, а найти обоюдно выгодное решение вопроса.
Это одна из отправных точек ведения спора еще со времен Сократа, который считал, что не следует сразу оспаривать позицию партнера. Он полагал, что путем наводящих вопросов лучше найти с собеседником точки соприкосновения. Беседу он сравнивал с «повивальным искусством»: «Я принимаю роды у мужей, а не у жен, и принимаю роды души, а не плоти». Не перебранка, а серьезный диспут, когда каждая сторона хочет понять другую, - вот в чем, по мнению древних греков, состояло искусство диалога. Особенно важно продумать начало серьезного разговора, ведь обычно первые фразы слушают особенно внимательно. Они должны быть предельно ясными, точными, как можно лучше выражающими вашу мысль. Если вы не хотите, чтобы излагаемые вами соображения полностью приписывались вам, следует сослаться на мнение других политиков, средств массовой информации, ученых, оговорив, к примеру, что такое мнение распространено в дипкорпусе и т.п. (эта ссылка должна, конечно, соответствовать действительности).
Советская дипломатия знает много примеров достойного участия в споре с партнерами. Умением убедить участников конференций и встреч отличались и советские министры иностранных дел, прежде всего Г.В. Чичерин и М.М. Литвинов. Но, к сожалению, она знает и примеры противоположного рода, когда поле дискуссии и спора превращалось в поле брани, оскорблений партнеров, в эпизоды, которые не имели аналогов в дипломатии прошлого и вообще не имели ничего общего с дипломатией. Читатель понял, конечно, что речь идет о А.Я. Вышинском, который привнес в дипломатию самый худший, агрессивный, прокурорский тон. Его пренебрежение к оппонентам, впрочем, как и к дипломатическим сотрудникам МИД СССР, граничило с разнузданностью.
Вот некоторые примеры. Известного дипломата, австралийского министра иностранных дел Г. Эватта он назвал «недобросовестным человеком», а его советников «безграмотными людьми», которые подсовывают шефу «филькины грамоты»; о госсекретаре США он сказал, что тот говорит «глупости», «болтает», «занимается саморекламой» и т.д.; постоянного представителя США в ООН он сравнивал с попугаем, который не понимает смысла сказанных им слов. Посол Бельгии, по его словам, нес «несусветный вздор», посол Австрии «распространял базарные сплетни и вранье». Он называл дипломатов и журналистов «взбесившимися», «сумасшедшими», «гангстерами», «головорезами», «психопатами», «лжецами», «матерыми провокаторами». Представители некоторых стран, не имевших дипотношений с СССР, откладывали их установление, ссылаясь на оскорбление их министров и государственных деятелей А. Вышинским. Конечно, ни о каких дружественных контактах после этого и речи быть не могло. Британский министр иностранных дел лейборист Э. Бевин после встреч с Вышинским говорил: «Когда я смотрю в его глаза, мне кажется, что в любой момент из пасти этого чудовища может закапать кровь тысяч его жертв»; а когда советский дипломат осмеял постоянного представителя Аргентины в ООН и тот ему ответил, Вышинский заявил, что тот по профессии акушер, а он юрист и лучше разбирается в международном праве. Последний ответил ему: «Я не акушер, а терапевт, поэтому мне не столько приходилось принимать людей на этот свет, сколько отправлять на тот. Так что мы с вами, господин министр, находимся в равном положении» 499 499 Подробнее см.: Международная жизнь. - 1991. - Июнь.
-
Интервал:
Закладка: