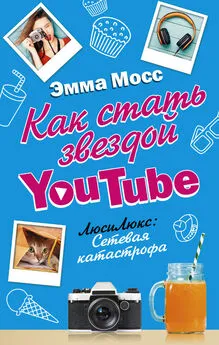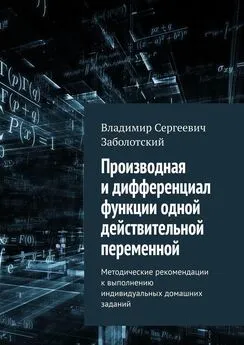Марсель Мосс - Социальные функции священного
- Название:Социальные функции священного
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Евразия
- Год:2000
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Мосс - Социальные функции священного краткое содержание
Социальные функции священного - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
253
жертвователь получал жертву целиком .
Однако вышеописанные права жертвователя на ту часть жертвы, что оставлялась ему после заклания, ограничивал ритуал [254]. Очень часто ему приходилось съедать ее в указанное время. Книга Левит позволяет съесть на следующий день после церемонии остатки от жертвы по обету (недер, neder) и жертвоприношения, называемого недаба (nedabâ, «добровольное приношение»). Но если наступал третий день, то они должны были быть сожжены. Тот, кто ел их на третий день, совершал тяжкий грех [255]. Обычно жертву полагалось съедать в день заклания [256]. Если оно происходило вечером, то к утру от жертвы ничего не должно было остаться. Таково было пасхальное жертвоприношение [257]. В Греции встречались аналогичные ограничения, например, при жертвоприношениях милостивым богам (0eoTç toIç MeiÀi%ioiç), богам хтонического происхождения, в Миании и Фокиде [258]. Кроме того, жертвенная трапеза должна была происходить только в пределах святилища [259]. Эти предосторожности должны были помешать останкам жертвы, имевшим сакральный характер, вступать в контакт с профанными вещами. Религия охраняла святость сакральных вещей и в то же время защищала обычный мир от их вредоносности. Если жертвователю, представителю профанного мира, дозволялось к ним прикасаться или есть их, то возможность делать это без риска давало ему посвящение, которое освящало его. Но действие такого посвящения длилось лишь какое-то время: оно постепенно исчезало, и поэтому съесть пищу надо было в определенный срок. Неиспользованные остатки следовало, если они не были уничтожены, по крайней мере запереть и держать под контролем [260]. Даже золу, оставшуюся после кремации, которую нельзя было ни уничтожить, ни использовать, не выбрасывали куда попало. Ее помещали в специально отведенные для этого места, находящиеся под охраной религиозных запретов [261].
Ведическое жертвоприношение, описание которого мы сейчас продолжим, включает редко встречающийся полный набор всех этих обрядов — и тех, что относятся к передаче части богам, и тех, что касаются связи с жертвователем.
Сразу после удушения жертвы специальный обряд обеспечивает ее ритуальную чистоту. Один из жрецов подводит к распростертому телу жену жертвователя, которая присутствовала на церемонии [262], и во время нескольких омовений она «поит» каждое из отверстий в теле животного очистительной водой [263]. После этого начинается разделка туши. С первым ударом ножа льется кровь; ей позволяют вытечь. Это часть, предназначенная злым духам. «Ты — доля ракшасов»26*.
Теперь начинается церемония, цель которой — передать богу важнейшую часть жертвы: вапу ^ара), или, используя медицинский термин, большой сальник [264] [265].
Ее быстро отделяют, сопровождая это действие всеми необходимыми предосторожностями и искупительными обрядами. Выносят вапу, подобно жертве, в сопровождении торжественной процессии, причем жертвователь всегда держится за жреца, несущего ее [266]. Дальше ее жарят на священном огне, располагая так, чтобы жир, вытапливаясь, капля за каплей падал в огонь. Говорят, что он падает «на кожу огня» [267], и поскольку считается, что Агни поручено передавать дары богам, то вытапливаемый жир, соответственно, принято считать первой частью жертвы, передаваемой богам [268]. После произнесения всех необходимых заклинаний поджаренную и разрезанную вапу бросают в огонь [269], сопровождая этот акт благословениями и изъявлениями всяческого почтения перед жертвой. Это еще одна доля богов. Это второе выделение само рассматривается как разновидность полного жертвоприношения [270]: перед вапой извиняются, как перед жертвой в момент заклания. Сделав это, возвращаются к животному, сдирают с него шкуру и вырезают из него восемнадцать кусков мяса [271], которые варят вместе. Жир, отвар, пенка [272], которые всплывают [273]в горшке, где происходит варка, предназначены богу или чете богов, которым адресуется это жертвоприношение. Затем все это бросают в огонь. То, что уничтожается таким образом, формально представляет собой еще одну абсолютно полную жертву [274]. Таким образом происходит еще одно тотальное устранение животного из этого мира. Наконец, из восемнадцати кусков, послуживших для приготовления этого бульона, берут еще определенное количество для разных божеств и мифологических персонажей [275].
Но семь из этих частей имеют совершенно иное назначение [276]. Именно благодаря этой доле жертвователю передаются сакральные качества
жертвы [277]. Эти части образуют то, что называется ида (idä). Это одновременно имя богини, которая олицетворяет животных и наделяет удачей и плодовитостью [278]. Таким образом, одно и то же слово обозначает божество и жертвенную часть [279]. Дело в том, что богиня воплощается в ходе самой церемонии, и вот как происходит это воплощение. В руки жреца, предварительно смазанные [280], кладут иду]; другие жрецы и жертвователь окружают ее и прикасаются к ней [281]. Когда они находятся в этом положении, надо призвать богиню [282] [283]. Здесь речь идет о призыве в собственном и техническом смысле слова {vocare in — «вызывать»). Божество приглашают не только присутствовать на жертвоприношении и участвовать в нем, но и сойти в приносимый дар. Совершается самое настоящее пресуществление. На адресованный ей призыв богиня является, принося с собой все формы мифических сил — солнца, ветра, воздуха, неба, земли, животных и т. д. Таким образом, как говорит один текст, идой (жертвенной частью) исчерпывается все что есть
283
хорошего в жертве и в мире .
Тогда жрец, державший ее в руках, съедает свою часть [284], а затем жертвователь свою [285] [286]. И все сидят молча, пока жертвователь не ополоснет
рот286. После этого [287]надлежащие части раздают жрецам, каждый из которых представляет одного из богов [288].
Обозначив различия в ритуалах, которые только что были сопоставлены, обряды передачи доли богам и использования своей части людьми, важно отметить их сходство. Те и другие включают одни и те же приемы, предполагают одни и те же действия. В обоих случаях мы обнаружили окропление кровью; наложение шкуры, в одном случае — на жертвенник или идола, в другом — на жертвователя или объект жертвоприношения. Вкушение пищи, фиктивное и мифическое — в том, что касается богов, реальное — в отношении людей. По существу, содержание этих разных операций идентично. Выполняется задача связывания убитой жертвы либо с сакральным миром, либо с лицами или вещами, которые должны получить выгоду от жертвоприношения. Окропление, касание, наложение содранной шкуры — явно лишь разные способы создания такого контакта, который причащение пище поднимает до высочайшей степени близости: ведь оно приводит не просто к внешнему сближению, но к смешению двух субстанций, когда одна настолько поглощает другую, что они становятся неразличимыми. Но если два обряда до такой степени подобны, то и преследуемые в том и другом случае цели не лишены сходства. В обоих случаях требуется связать религиозную силу, накопленную в пожертвованном объекте последовательными освящениями, с одной стороны — со сферой сакрального, с другой — со сферой профанного, к которой принадлежит жертвователь. Обе системы, каждая по-своему, участвуют в установлении этой связи, которая в результате нашего анализа представляется нам одной из самых примечательных черт жертвоприношения. Жертва — это посредник, благодаря которому устанавливается контакт. Через нее все сущности, встречающиеся в жертвоприношении, соединяются. Все сходящиеся в ней силы сливаются.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: